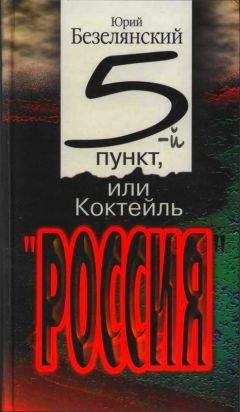Эти строки Эренбурга были напечатаны 22 октября 1919 года. Статья мгновенно получила отклик, Эренбургу ответил «открытым письмом» журналист Самуил Марголин, вернувшийся в Россию, как и Эренбург, из парижской эмиграции в 1917 году:
«…Я прочитал, г. Эренбург, Вашу блестящую статью «О чем думает «жид»». И сразу же решил: нет, еврей так не думает. Да, и я знаю эту привязанность и любовь к России, которая обуревает еврея и здесь, на русской земле, и на чужбине. Гонимые, без права на жительство, не попавшие в русскую школу и в русский университет из-за процентных ограничений, пережившие погромы в нескольких поколениях, мы не устали любить Россию. Мы ее любили и любим — в этом Вы правы, И. Г., — но в этом не наше благословение, а наше проклятие.
Еврейская интеллигенция в России слилась в чаяниях и действиях с русской интеллигенцией и вместе с нею не за «развал», не за «разрушение», но за освобождение и своей родины отдавала свою жизнь. Вместе с русской интеллигенцией мы мечтали о народовластии, а не о «комиссародержавии», о братстве и равенстве, а не о «чрезвычайках», вместе с нею считаем первыми «контрреволюционерами», мракобесами и предателями освобождения целой страны людей эшафота и «чрезвычайки», вышедших, может быть, и из ее и нашей среды.
Развал, боль, крушения из-за держиморд большевизма — мы переживаем общие.
Но ведь у нас, евреев, есть еще одна боль, своя отдельная драма жизни, которой мы не желали замечать прежде, которую не желаете и сейчас видеть Вы, г. Эренбург, но которая шипами колет еврейское сердце…»
Далее в своем ответе Марголин цитирует слова Эренбурга: «Благословляю некормящие груди и плетку в руках», и возмущению его нет конца:
«Кто это пишет в таком исступлении, с надрывом в душе, кто выкрикивает эти нервные слова надорванным голосом, почти в истерике? Это говорит поэт Эренбург, у которого есть только одна молитва о России и нет другой для еврея. До какого слияния с чужой культурой нужно дожить, до какой ступени рассеять свой дух по чужой земле, чтобы сказать эти слова, звучащие, как псалом исступленного?..
…Мы слыхали проклятия русскому народу за «плетку» и «сапог» от Герцена и Чаадаева. И вдруг благословение, приятие, оправдание плетки — от еврея — поэта Эренбурга!
В годы, когда Ив. Бунин пишет свои огненные проклятия родине, когда Ал. Ремизов в адской тоске вырывает из сдавленной груди стон: «Нет, я не русский… не русский…», в эти дни еврей Эренбург забывает обо всем на свете, кроме своей любви к России, любви во что бы то ни стало, хотя это от психологии раба, но вовсе не от психологии сына великого народа и гордой страны.
Очевидно, ассимиляция еврейской интеллигенции стала рабством. Поэт Эренбург выразил это так ясно.
Мы живем на лестнице, а не в доме, и я даже думаю, что мы живем в подворотне среди сутулых и согбенных людей — и там у нас рождаются смиренные благословения и извращенная психика. На чужбине в Америке старые евреи — выходцы из России, пережившие по нескольку погромов, тоскуют и плачут по родине. В Париже, в суете и сумбуре Латинского квартала, еще не так давно и я бродил среди эмигрантов и безумно тосковал по России. Еще раньше я осенними холодными ночами расхаживал по петроградским улицам, не имея пристанища за отсутствием «права на жительство». Но и тоща я тосковал и любил только Россию.
Сейчас я стою на лестнице. Возле меня — евреи. Я пережил всю боль за поругание революции большевиками, весь ужас — озверения масс, весь гнет — мести и ярости расколовшихся групп народа. Но ведь самое болезненное, самое гнетущее, самое кровавое я пережил как еврей.
И вот почему я думаю, что грех — убить в своей душе чувство сродства с евреями, и что для всей еврейской интеллигенции открылось непреложное жизненное дело — мыслить об исходе еврейских масс. Куда? Не знаю… Но для меня ясно, что лестница не дом, не родина. И понял, что нужно, непременно нужно еврею отдать все свои силы, мысли, чувства и действия, сейчас, евреям».
Вот такой ответ Илье Эренбургу дал Самуил Марго-лин. Два противоположных взгляда на еврейскую проблему. Эренбург — сторонник ассимиляции, ему это было легко и безболезненно реализовать, ибо он не знал еврейского языка, никогда не изучал всерьез еврейскую культуру и традиции. Всю жизнь Эренбург оставался убежденным противником еврейской автономии, как своего рода гетто. Марголин, напротив, был за сохранение еврейства в евреях. Никакой ассимиляции. Евреи есть евреи, и им нужен исход. В 20-е годы не было Израиля. В 1948 году Израиль был образован. И появилось конкретное понятие сионизма.
Но оставим всю эту сложную и страстную проблематику. Лучше обратимся к словосочетанию: поэт Эренбург. Для многих оно непривычно. Писатель, публицист — да. Но поэт? И поэт тоже. И вот подтверждение, — одно из ранних стихотворений Эренбурга:
В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.
Влача тяжелые доспехи
И замедляя ровный шаг,
Я прохожу при громком смехе
Забавы жаждущих зевак.
Теперь бы, предлагая даме
Свой меч рукою осенить,
Умчаться с вернымии слугами
На швабов ужас наводить…
А после с строгим капелланом
Благодарить святую Мать
И перед мрачным Ватиканом
Покорно голову склонять.
Но кто теперь поверит в Бога —
Над ним смеется сам аббат,
И только пристально и строго
О нем преданья говорят.
Как жалобно сверкают латы
При электрических огнях,
И звуки рыцарской расплаты
На сильных не наводят страх.
А мне осталось только плавно
Слагать усталые стихи.
И пусть они звучат забавно, —
Я их пою, они — мои.
Эренбург опоздал с рождением, но, как говорит другой поэт, «времена не выбирают». Раз выпал XX век, значит, пришлось жить и бороться в нем. Эренбург дважды получал Сталинскую премию, но находился и на грани ареста, так как был «активным борцом за мир». Ходил в космополитах. Подвергался нещадной критике. Но выжил, не сломался. Его перу принадлежат три, на мой взгляд, знаковые вещи: сатирический роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1922), повесть «Оттепель» (1954) и грандиозные мемуары «Люди, годы, жизнь» (1961–1966).
Сначала Эренбург воспевал Россию, затем по-своему любил и защищал Советский Союз. «В 1949 году в Париже во время Первого конгресса сторонников мира один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь пьесы Островского. Я ответил: «Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуатацию, — это правда. Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков…» («Люди, годы, жизнь»).
Россия Россией, но и Парижа писатель не забывал. В 1945 году Илья Эренбург написал стихотворение «Ты говоришь, что я замолк…». Концовка его такая:
Прости, что жил я в том лесу,
Что все я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.
Но хватит об Эренбурге, не диссертация ведь. Надо и о других замолвить словечко.
Семен Юшкевич. До революции вышло его полное собрание сочинений в 15 томах. «Певец человеческого горя» — так называл Юшкевича Корней Чуковский. В основном он писал об евреях, о жизни в «черте оседлости». Одну из его пьес, «В чужом городе» (1905), поставил Мейерхольд. Критики считали, что Юшкевич в свое творчество вложил «еврейскую душу, еврейское сердце, еврейские нервы и еврейский ум». По словам Павла Милюкова, это было «служение русской литературе», так как писатель «дал понять и почувствовать жизнь еврейского народа».
Но, конечно, больше, чем Юшкевич, отразил еврейскую жизнь Шолом-Алейхем (Шолом Рабинович). Одна только фраза, вложенная в уста мальчика Мотла, чего стоит: «Мне хорошо — я сирота…»
Как выразился нарком Луначарский: «…вместе со своими героями Шолом-Алейхем разрешал внутренние противоречия жизни в смехе».
А внешние?..
«Евреи ведь и сами не станут отрицать, что они народ поставщиков, принявших на себя миссию поставлять всему миру знаменитостей, отдавая все, что у них есть лучшего и прекраснейшего…»
Спиноза, Гейне, Кафка, Марсель Пруст, Модильяни, Стефан Цвейг, Фрейд, Нильс Бор, Жак Оффенбах, Сара Бернар, Эжен Ионеско и другие звезды первой величины.
В Америке Шолом-Алейхема звали сначала еврейским Марком Твеном, а затем еврейским Шекспиром.
«— Что вы поделываете, пане Шолом-Алейхем?
— Что нам поделывать? Пишем.
— Что пишем?
— Что нам писать? Что видим, про то и пишем».
«Какие-то «птичьи» профессии, — улыбался Шолом-Алейхем. — Маклеры, агенты, сваты, менялы, журналисты… Вы слышите? Менахем-Мендл — «писатель»! Разговаривать уговаривать, переговаривать, заговаривать…»