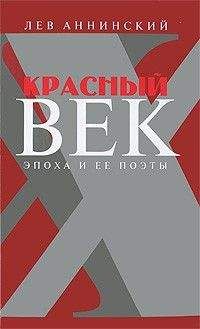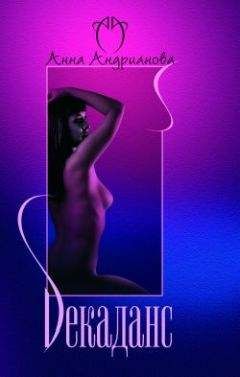Однако «в Пролеткультах» Прокофьев лихо декларирует Русь — разумеется, «Русь Советскую, молодецкую». Но вслушайтесь: как! Сняли с тройки «трехцветную дугу», выкинули «крестик божий», а дальше (дальше, как во всякой частушке, пропустите первые две строки — замах, и почувствуйте удар второго двустишия):
И некрасивую, а нежу
(Ведь ты теряешь счет годам),
Тебя я с ревности зарежу,
А полюбить другим — не дам.
В 1923 году Прокофьев вряд ли имеет ввиду знаменитое некогда рассуждение Розанова, что тот всегда ругает русских, но не терпит, когда их ругают другие. И у Пушкина можно найти нечто близкое. Однако поразителен этот психологический оборот у ладожского парня, прыгнувшего в поэзию прямо с бережка, где он признавал, что его растерло в «прах». Выплывет! И спляшет, не сбившись, и все фигуры выведет, как по заказу. Но свое удержит.
За семьдесят лет жизни классик советской поэзии Александр Прокофьев выдает «сто томов» вполне «партийных книжек», он с веселой легкостью исполняет требуемые номера. Может показаться, что там внутри все легко и даже невесомо, но на самом деле душа, мгновенно принимающая форму идеологического сосуда, потаенно отдана своему, сокровенному. Только не формулируется сокровенное, оно пляшет огоньком в глазах, ерошится в словах-подначках, и оно скорее зарежется, чем даст себя полюбить другим.
Это — загадка Прокофьева.
Ключ к разгадке — чисто музыкальный, и выявляется как мелодия:
О, Ладога-малина,
Малинова вода,
О, Ладога, вели нам
Закинуть невода…
Завороженный этой музыкой друг Прокофьева поэт Иосиф Уткин печатает пять "Песен о Ладоге" в "Комсомольской правде"; цикл появляется в феврале 1927 года, и с этого момента не только слава их автора взмывает вверх, но и поэтический почерк его устанавливается бесповоротно. Рождается поэт.
Поэт живо откликается на меняющиеся злободневные вызовы и легко включает в свои попевки меняющиеся символы времени. В 20-е годы это вселенская любовь к Революции, танки Антанты и красный террор, в 30-е — кровь большевистского сердца Кирова и мщение его убийцам, а также стахановцы, колхозники и могучий маршал наш Буденный, на рубеже 40-х — летчики, но и конники… И непременный красный флаг, и звезда — пятиконечная, пятилучовая, пятикрылая, пятипалая, и труба походная, и песнь, мелодии которой ничто не может помешать.
Техника подключения политической "нотной грамоты" к колдующей мелодии стиха хорошо видна на реалиях второго ряда, вроде Моссельпрома или столь излюбленного советскими поэтами Москвошвея. У Прокофьева, потомственного рыбака, этот ряд пахнет плотвой и мойвой, а молитва промысловиков, попавших в бурю, звучит так:
А я во всю-то глотку
Кричу в родной Руси:
"Главрыба и Главлодка",
Отчаянных спаси!"
Подозреваю, что в изначально-творческом варианте было "Помилуй и спаси", да наверное, и Глав-водка… А логика такая: тополя, прежде, чем зашуметь, "просят слова в порядке прений". А потом шумят, как полагается по мелодии. На луну любуются не барышни, а "совбарышни", но любуются, как надо. Обращаясь к соснам и травам, поэт обращается "к собранью сосен и трав" и, разумеется, не голосит, а "голосует".
Мелодии это не нарушает. Россыпь частушек, плясовой кураж, нестребимая веселость! Радость слияния со всеми. "Если я не запою, запоет любой". И к любому обращен эдакий свойский говорок:
Гармоника играет, гармоника поет.
Товарищ товарищу руки не подает.
Из-за какого звона такой пробел?
Отлетный мальчишка совсем заробел.
И он спросил другого:
"Товарищ, коё ж,
Что ж ты мне, товарищ, руки не подаешь?
Али ты, товарищ, сердцем сив,
По какому случаю сердишьси?"
Соленым ветерком пронизали эти строки в 20-е годы советскую лирику… Тут многое интересно. И мотив размолвки между своими — прямо-таки лейтмотив прокофьевской поэзии. "Когда расходятся дружки" — дозированное соперничество "своих" — компенсация монолитной спайки, противовес метельному хаосу борьбы с "чужаками"? Что существенно — так это найденный Прокофьевым интонационный ход, этот свойский говорок, малосовместимый с трубной звукописью "южной школы" и смыкающийся с ораторским прямодушием Маяковского, но — проще, мягче, задушевней. Говорок этот откликается у нижегородца Бориса Корнилова, а потом будет подхвачен Михаилом Лукониным, у Твардовского же расцветет эпически ("Василий Теркин" начинается в финскую войну у разных поэтов, в том числе и у Прокофьева… но у Прокофьева «теркинский эпос» отступает перед лирикой, то есть перед распевом, иногда протяжно-подмывающим, иногда частушно-плясовым).
Алексей Толстой впервые услышавший Прокофьева в конце 20-х годов и пришедший в восторг, все это почувствовал: и народный говорок, и то, что это не «есенинское», а «что-то другое», и что эпос лежит в основе, и что от эпоса потянет в иную музыку:
Вот реакция Алексея Толстого в записи Всеволода Рождественского[14]:
«Толстой восхищенно выдохнул: «Хо-хо!» — и ладонью широко как бы умыл лицо — жест… крайнего удовольствия. Потом нагнулся ко мне:
— Откуда он? Кто такой?.. Ну, молодец! Какой молодец! Крепкой кости парень! Русское слово-то у него прямо во рту так и катается… Богатырский, былинный дух… Ну, конечно, не без лукавства и юмора, но ведь это тоже в русской натуре. Я поначалу… подумал было: ну, это будет по есенинской части. А потом вижу: нет, тут что-то другое, хотя и от тех же народных корней. Другое, и совсем по-своему… С Ладоги он, говорите? Значит, северянин…»
Но подчеркнуто "местная", онежско-ладожская, оятско-вятская прописка не мешает у Прокофьева непременной для "Октябрьского поколения" опоре на "знаменитый шар земной", и даже придает земшарности оттенок особого куража:
Где-нибудь да в Гамбурге выйди да выстань,
Тырли-бутырли — дуй тебя горой!
Гамбург возникает здесь не столько по ходу плаванья (стихотворение посвящено "братеннику" поэта, моряку), сколько по отдаленному созвучию с селом Гавсари, что близ Кобон. Узор имен собственных, присоленно-северных таит в стихе настоящую магию. Особенно когда по контрасту в хоровод втягивается что-то южное. Баку, Астрахань… А однажды в куплете "Яблочка" вытанцовывается следующее:
Пусть ласковая песня
Отправится в полет;
Что вынянчила Чечня,
Абхазия поет.
Написать такое в 1927 году — значит прямым ходом попасть в ясновидцы, за семь десятилетий угадывающие горячие точки. Но это, конечно, случайное попадание, подобное тому, как у Прокофьева "обалдевшие ерши" идут через Нарвские ворота, — те самые, через которые Ахматова при начале войны вернет свою Музу в Отечественный строй[15].
Символы, имена могут совпасть случайно. Но не случайна сама магия символов — заклинание реальности звучанием слов, заполнение мироздания музыкой, не столько осмысление, сколько вслушивание. Слово — блоковское.
Вслушиваясь в музыку новых названий, Прокофьев пишет, например, "Песню улицы Красных зорь", целую книгу называет этим звуко-словосочетанием. Коренные ленинградцы могут оценить иронию истории: не удерживается это революционно-песенное имя, данное Каменноостровскому проспекту в эйфорические 20-е годы: еще раз переименовывают проспект — в Кировский. Прокофьев, оплакивающий Кирова в 1934 году, вряд ли против.
И вообще смена символов, имен и привязок не становится для него травмой, потому что вся эта фактура — лишь надводная, резная верхушка айсберга, основная масса которого уходит в Ладожскую глубину. Интересно, что образ айсберга, всю жизнь грезившийся Сельвинскому, не приходит Прокофьеву на ум; может быть, оттого, что Океан, Великий и Тихий, спокойно терпит, когда от него отливают в стакан, для Ладоги такая операция выглядела бы смешно; однако буря, внезапно разыгрывающаяся на Ладоге, при мелководности озера, и внезапна, и неуправляема.
Прокофьев даже не ставит такой проблемы — как-то управлять этим хаосом, ни мысленно, ни реально. Он в него завороженно вслушивается, вживается, вписывается:
На тебя, голубчика,
Шли чекисты Губчека.
Эх, жизнь, эх, жизнь,
Звонкая, каленая,
Шаровары синие,
Фуражечки зеленые.
Это — чекистские дела 1920 года, описанные десятилетие спустя.
Бегут — большой и карлик,
И в мыслях: "Не упасть!"
И тысячные армии
Бегут, разинув пасть…
Это — бой с белыми в 1918 году под Гатчиной, воссозданный в 1927 году.
Я ничего не видел там
(Лишь пар до потолка).
Мне зубы вышиб капитан
Волынского полка.
Двужильная тропа легка —
Я дал здорового дралка.
И вихорь мчался по пятам:
"Спасибо, бравый капитан!
Я встречусь где-нибудь с тобой, и я тебе тогда
Поставлю рот взамен ушей и уши вместо рта!"
Это — белогвардейский плен, из которого боец Прокофьев бежит в 1918 году, и который поэт Прокофьев описывает в 1930-м.