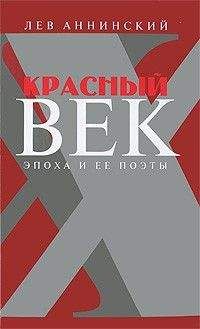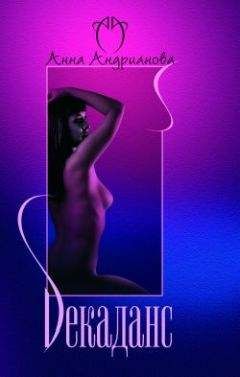И в мирное время — «стихи, как рекруты, встают». Публикации в газетах и журналах идут строем, потоком, лавой. Книги выходят одна за другой. Критики фиксируют «небывалый прилив творческой энергии» и выпускают о Прокофьеве монографию за монографией. «Кульминация» взлета — рубеж десятилетий: в 1961 году к Сталинской премии прибавляется Ленинская.
Ленин, Ленинград — ключевые звенья в цепи символов, связывающей воедино прошлое с текущим и будущим, родное со всемирным. «Партия моя! Ты — вселенная, и ты — Отчизна!» Все охватывается созвучием. «Шар земной! Пей со мной!» Россия и Революция, как кровные сестры, посажены за один стол: Россия — «по правую руку», Революция — «в красный угол» (белый еще не вызрел). Кумач сохраняет в пестряди цветов центральное место: «Ведь первый луч из рук Вселенной послала Красная звезда».
Вселенная из космической дали передислоцируется поближе: ложится под ноги щедротами путешествий. Неунывающий герой включается в расширенный хоровод чисто прокофьевской веселой строчкой: «Всю-то я Литву теперь проехал».
А дальше! Вся Латвия в солнце сегодня! Украина, свет мой, Украина! Ой, летите гуси к милой Беларуси! Расцвели сады Мордовии. А вот и Азии средина, она — в Туве. А вот Европа. Я пою тебя, Равенна. Я скажу тебе, Сицилия. Встало солнце так примерно возле города Палермо. Старик Везувий. Батюшка Тихий Дон. Байкал синеволный. Енисей богатырский. Звенящий Неман. Синяя Влтава…
Из трех стихий, которые прошла смолоду прокофьевская муза, две: огни и медные трубы — несколько прирученные, отступают на второй план. «На огне их обжигаю, — сказано о стихах. — А потом в народ гоню». Трубы — уже не медные, а серебряные — трубят друзьям. «Трубы, трубы, огненное сердце, Куба, Куба!» Это 1960 год — приветствие вышедшим на мировую арену Фиделю и Че — любимым героям тогдашней России и особенно молодых поэтов.
Это не мешает Прокофьеву, одному из руководителей Союза писателей СССР, при всей его широко декларируемой душевной широте, — ревниво атаковать молодых поэтов. Попав в Сигулду, он зацепляется за «Треугольную грушу» Вознесенского и начинает гвоздить его, заодно обрушиваясь на корневые рифмы (а это уже Евтушенко), так что полемика с «поколением шестидесятников» очень удачно оживляет песенные и плясовые ритмы и усложняет к лучшему общую целостно-победоносную картину мира.
Огни и трубы пригашены — воды заполняют простор. Дожди, ливни, капели, волны. «Волна, волна, все буквы влажны» — какая завораживающая строчка. «Мы — водоливы, мы — водохлебы», — какая верность своей интонации, своей игровой стихии! «Водобежь, Водобежь, побеги на Беловежь…» — то ли это провидение фатальной роли Беловежья в судьбе Отчизны, то ли предвестие Летейских вод, чуемых в лепете любой безымянной речки…
Впервые, кажется, за всю поэтическую страду — воскрешен в стихах отец, убитый почти полвека назад, когда его застрелил не подчинившийся милиции односельчанин. Отец погиб в январе 1924 года: его смерть и смерть Ленина, совпав, замыкают единство этого мира.
Свист соловья и кудри гармониста, красные дни революционного календаря и черные мокрые ветки ивы, и море-Ладога, и райна — брус для крепления паруса, непонятный без комментария, но неотделимый от песни-жизни, — все это в 1970 году смыкается на последней черте:
А ведь было —
завивались в кольца волосы мои,
А ведь было —
заливались по округе соловьи,
Что летали, что свистали
как пристало на веку
В краснотале,
в чернотале,
по сплошному лозняку.
А бывало —
знала юность много красных дней в году,
А бывало —
море гнулось, я по гнутому иду,
Райна, лопнув, как мочало,
не годилась никуда,
И летела, и кричала полудикая вода!..
Эта песнь венчает посмертное собрание самого певучего из поэтов «Октябрьского поколения».
МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ:
"БОЛОТО. ЛЕС. РЕЧНЫЕ КАМЫШИ. ДЕРЕВЬЯ. ТРАКТОР. РАДИО. ДИНАМО"
Если судьба определяет поэту место рождения не вслепую, то есть смысл вдуматься, а прежде вслушаться — в имя деревни, где он появляется на свет в седьмой день ХХ века.
Глотовка. Осельской волости, Ельнинского уезда. При Советской власти — Всходского, потом Угранского района.
Что-то сельское, еловое. После революции — овеянное восходом, всходами. Потом — памятью об окончательном избавлении от ига…
Интересно, однако, как перекидывают из района в район, словно докучную ненужность, эту нищую деревню (при Советской власти — "неперспективную"), самое имя которой: Глотовка — заставляет вздрогнуть.
Откуда имя? Ясно: от клички. Был какой-то мироед, живоглот. Глотничал. У литературных критиков естественно возникает ассоциация: Глотовка — того же ряда, что Горелово, Неелово, Неурожайка тож.
Создатель этого ономастического ряда так же естественно первым попадает в руки (и западает в сознание) едва научившегося грамоте бедняцкого сына: "певец горя народного" — представлен он в хрестоматии Вахтерова.
Попутно: как-то раз бедняцкие сыны сошлися и заспорили: где больше самоваров — в Глотовке или в Оселье? Оказалось поровну: по одному. Стали считать, где сколько книг. В Глотовке — две. Гадальная — "Оракул" и псалтирь.
Так что прежде, чем откроется в деревне школа (событие войдет в легенду: едет учительница, везет бутыль чернил и сто пять фунтов книг!), — грамоте будущий поэт обучится, читая молитвы над покойниками.
Еще немного статистики: он — двенадцатый ребенок в семье. Всего — тринадцать. Выживают пятеро. Это для русской деревни — нормально.
Теперь о матери этих тринадцати. Она, понятно, неграмотная. Из соседней деревни. Имя деревни: Некрасы.
Оценили камертон судьбы?
Между прочим, прежде, чем явился на Руси поэт с роковым вопросом: кому жить хорошо? — был еще один поэт, элегический романтик по фамилии Красов. Русь его забыла, она выбрала того, чья фамилия начинается с отрицательной частицы. Это ближе ее горестям.
Мать Исаковского — Дарка (вообще-то Дарья, но по правильному имени никто не зовет). Дарка Фильченкова. Возьми поэт фамилию матери, — так и звучало бы это чисто-русское, тихое, неброское…
Суждено оказалось иное, летящее: Исаковский.
Собственно, фамилия (по отцовской линии) проще: Исаков. Щегольской польский хвост приделал ей старший брат, выбившийся в рассыльные волостного правления. Думал, поможет. Не помогло: как ушел брат из деревни, так и пропал бесследно на беспутьях России, сорвавшейся в безумный век.
Уход без возврата — еще одна нормальная неотвратимость той "серединной" Руси, из глубины которой выходит поэт Михаил Исаковский. "Великое переселение" — черта реальности, проваливающейся в Мировую войну и Мировую революцию. Ярче других, рельефнее в ней — те судьбы, что изначально мечены какой-нибудь особинкой: географической ли, социальной. Один — из овеянной мифами Одессы, другой — из полутатарского Крыма, третий — из Сибири, тот — из-под театрального купола, у того пароль "Курсантская венгерка", у того в истоке хоть и Ладога русейшая, да с ушкуйным, разбойным оттягом…
А тут? Неразличимая средне-русская унылость. Бескормица. Черные избы. "Неинтересная" речушка (а между прочим, Угра… другой бы извлек бездну ассоциаций из давней перестрелки с татарами). А тут — ничего. "Незолотая… незвонкая" — может ли такая пора стать "милой"? Может, но надо быть Исаковским.
Ни малейшей попытки приукрасить, позолотить. "Я вырос в захолустной стороне, где мужики невесело шутили, что ехало к ним счастье на коне, да богачи его перехватили… Я вырос там, среди скупых полей, где все пути терялися в тумане, где матери, баюкая детей, о горькой доле пели им заране…"
Понятно, почему уход из деревни в поисках лучшей доли — неписаный закон этой земли. И то, что хлеба не хватает до нови. И что голод будет. И что спасти может только отход кормильца на заработки. В лучшем случае он возвращается кое с какими деньгами. В худшем — без денег: пеший, оборванный, голодный, тощий, еле живой. В еще худшем — вообще не возвращается: заработав в городе слишком много, начинает котовать. Кто закотовал — конченный человек. И семья его, оставшаяся в деревне, обречена: по миру пойдет, перемрет с голода; изба развалится, и ее растащат на бревна.
Первое поэтическое произведение Исаковского — о такой погибшей семье. В каком ключе оно было написано, можно догадываться: это произошло до того, как Исаковский, принятый в ельнинскую гимназию, решил, что поэзия — это если Венера, Муза и Аполлон. До этого увлечения (весьма кратковременного) у него была другая школа, далекая от классических основ. Глотовские страдалицы-женщины тайком от свекров и свекровей слали в город мужьям-отходникам жалобные письма. Писал для них эти письма — будущий поэт. Отнюдь не под диктовку, а по душевному отклику на просьбу, иногда за пару-другую копеек, вручаемых так же тайно. Закончив письмо, читал вслух. Женщины слушали и плакали.