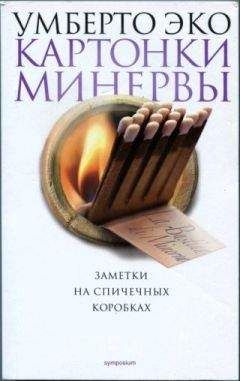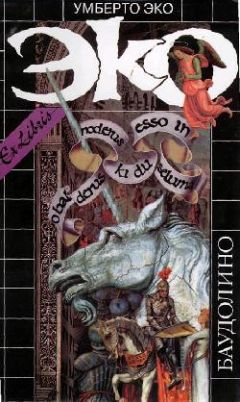Я не намерен высказываться по такому деликатному вопросу. Я только описываю исторически-культурный парадокс, интересную чехарду мнений. Видимо, католики подпали под обаяние проповедников «new age».
Случайность и Промысел[396]
Казалось, они ушли в далекое прошлое. Или, казалось, за ними надо ехать в «Библейский пояс» США[397] — в самые дремучие штаты, коснеющие в дикарском фундаментализме, в штаты, которые только Буш воспринимает серьезно, да и то в последние месяцы перед выборами… Однако же нет — вот они. Снова покушения на теорию Дарвина. Дошло до выкриков о необходимости убирать Дарвина из программы общеобразовательной школы. Нашей школы, обратите внимание — из программы итальянской католической школы.
Я так напираю на «католичность», потому что христианский фундаментализм обычно бытует в протестантских средах и характеризуется стремлением буквально толковать Писание. Но чтобы толковать Писание буквально, необходимо, чтобы верующие толковали Писание свободно. А свободно они толкуют Писание в протестантстве. У католиков не бывает фундаментализма. Потому-то и имела место религиозная война реформаторов с контрреформаторами. Потому что у католиков толкование Писания — это прерогатива и забота церковников.
Так вот о толковании церковниками Писания. Уже у отцов церкви, и даже раньше — у Филона Александрийского[398] развилась гибкая герменевтика, та, что оформилась окончательно у святого Августина. Августин принял за данность, что Библия говорит переносными смыслами (то есть метафорами и аллегориями), а следовательно, вполне возможно, Библия говорит переносными смыслами, что семь дней творения — это на самом деле семь тысячелетий. И после Августина в христианской церкви закрепился в виде нормы именно этот подход к толкованию.
Если считать, что «семь дней творения» сказано в поэтическом смысле, а реальный смысл сказанного приходится угадывать, книга Бытия нисколько не противоречит Дарвину. Сначала Большой Толчок — взрыв и выделение света, потом принимают форму планеты, и на Земле совершаются большие геологические сдвиги (суша отделяется от моря), потом появляются растения, плоды, семена, в водах кишат живые существа (жизнь зачинается в воде), взмывают в воздух птицы, затем прибегают на своих лапах млекопитающие (не прояснена генеалогическая ситуация с гадами, но вряд ли стоит настолько многого ждать от книги Бытия).
Только в конце и в кульминации этого процесса (следовательно, после крупных антропоморфных обезьян) появляется человек. Человек, что немаловажно, создан не из ничего, а из грязи — то есть из уже имеющейся материи. Самый выраженный эволюционизм, какой только можно представить. Описанный очень высокопарно, но тем не менее.
За что цеплялось католическое богословие, чтобы отмежевываться от материалистического эволюционизма? Не только за то, что все-де было творением Божиим (это само собой ясно), но и за тезис, что в эволюционном развитии на некоей ступени лестницы имел место великий прыжок: Господь вживил в смертное существо бессмертную разумную душу. Именно вокруг этого момента идет спор сторонников материальности со сторонниками духовности.
В США сейчас вовсю развернулась кампания с целью ввести креационистскую доктрину в программу общеобразовательной школы, а дарвиновское учение обозвать «гипотезой» (помнится, Галилей тем и спасся: сказал, что его теория — гипотеза, а не открытие). Интересно в этой американской кампании вот что. Чтобы она не выглядела борьбой религиозной доктрины против научной теории, у них там принято говорить не столько о Сотворении, сколько о «Промысле». То есть, иными словами, «мы не навязываем вам неправдоподобную картинку — бородатого антропоморфного Иегову. Мы хотим только, чтобы вы думали, что если эволюционное развитие и имело место, оно совершалось не произвольно, а согласно определенному проекту, а проект явно был кем-то замышлен».
То есть идея Промысла допускает, если угодно, даже Бога-пантеиста на месте трансцендентного Господа.
Но вот что интересно: пропагандисты этой теории не учитывают, что Промысел не исключает случайного процесса, дарвинистского, идущего путем проб и ошибок, и при котором сохраняются те особи, которые делают меньше ошибок, которые лучше приспосабливаются к среде в ходе борьбы за выживание.
Возьмем самое благородное из всех вообразимых проявлений Промысла — то есть художественное творчество. Микеланджело рассказывает нам в своем знаменитом сонете[399], что ваятель перед куском мрамора не знает, какая статуя будет извлечена оттуда, что скульптор идет по пути проб, отсекая лишнее, высвобождает статую из пустой породы. Что за статуя там внутри — Моисей ли, Раб ли, — художник узнает только в конце работы, состоявшей из интуитивных попыток.
Промысел, следовательно, являет себя через комбинацию то принятий, то отторжений вариантов, подсовываемых Случаем.
Естественно, хочется понять, что же первичнее — Промысел, который склоняет нас принять один вариант, отторгнуть другой, или Случай, который приуготавливает нам и первый, и второй, и сотый вариант для нашего приятия или отторжения, тем самым утвердившись в качестве единственного Разума, и тогда Случай тождествен Богу.
Вопрос непростой. В этом очерке мы его не решим. Но, может быть, полезно будет всем понять, что и с философской, и с богословской точки зрения этот вопрос замысловатее, нежели его хотят представить, навязывая нам, фундаменталисты.
Руки прочь от Моего Сына![400]
Ну да, да, да. Понимая, что от вопросов не укроюсь, я пошел в кино и посмотрел эти «Страсти Христовы» Мела Гибсона[401]. И даже заблаговременно: еще до выхода фильма в Италии. Я посмотрел его за границей (где он хотя бы, надо отдать им должное, запрещен детям до шестнадцати). На каком языке смотреть — не имеет значения, все равно там все говорят по-арамейски, за исключением римлян, которые визжат «И!»[402] в смысле «Пошел отсюда на хрен!»
Должен сразу заявить, что фильм, технически виртуозный, совсем не содержит того, в чем его обыкновенно обвиняют — ни антисемитизма, ни воинствующего христианства, пронизанного жестокой мистикой, ни чего бы то ни было такого подобного, — а являет собой зубодробительный и кровавый боевик, состряпанный для выколачивания денег из публики путем показа насилия и пыток «Pulp Fiction»[403] в сравнении с этим — мультфильм для детсада. А в гибсоновских «Страстях» от детсадовских мультфильмов есть только специфическое отношение к смерти и увечьям: точно как Тома и Джерри можно раскатывать асфальтоукладчиком, превращать в компакт-диски, скидывать с небоскребов, расколачивать на тысячу кусков, давить дверями, так и в «Страстях» льются гектолитры крови, явно подвозившиеся на съемочную площадку цистернами; чтобы ее набрать столько, обзванивали вампиров со всей Трансильвании.
В фильме нет религиозности. Иисус без лишних затей выводится в том облике, который описывают детям перед первым причастием: то есть, очень хороший, и все. Отношения с Отцом, правда, у Иисуса истерические и нисколько не божественные. Такие отношения могли бы иметь место между Чарли Мэнсоном[404] и Сатаной. Сатана, впрочем, своим чередом время от времени показывается в фильме — он кривенький, косенький и педерастический, а от немеренной груды кровяных шариков его тошнит, как и меня и вас. Хуже всего финальная сцена воскресения, более близкая к анатомическому пособию, нежели к «Summa Theologica».
От дивного евангельского недоговаривания в этом фильме не осталось ничего. Здесь все представлено выпукло и зрелищно, все то, о чем Писание не говорит, оставляя верующим пространство для молчаливого раздумия о наивысшем самоотречении человечества. Там, где в Евангелии сдержанно сказано, что Христа бичевали (по три слова у Матфея, Марка и Иоанна и ни одного слова у Луки), Гибсон сначала закатывает Иисусу порку прутьями, потом — ремнем с металлическими бляшками, потом всыпает еще батогами, покуда Христос не отделан ровно так, как публике нравится — в рубленое мясо, в непрожаренный гамбургер.
Ненависть Гибсона к Назареянину, видимо, не имеет пределов, и бог знает какие детские травмы режиссер выместил на все более кровоточащем Спасителе. Видимо, консультанты не позволили ему подключить электроток к половым органам и вкатить Иисусу бензиновую клизму. Хотя это был бы шанс еще лучше довести публику до дрожи перед таинством Искупления.
Антисемитизм? Ну, наверное, когда планировали этот сплэттер по модели обычных вестернов, учитывали: зрителю требуется идентификация с хорошими против плохих, поэтому плохие должны быть до того уж плохи, что хуже просто не бывает. Священники Храма типичные гады, но еще паскуднее римляне, похожие на Черного Питера, когда он пристегивает с хихиканием Микки-Мауса к креслу для пыток Гибсон, наверное, пораскинул мозгами и пришел к выводу, что если выставить (вслед за Астериксом[405]) главными плохишами древних римлян, будет скандал на Капитолии и ничего особенно страшного, а вот с евреями надо обращаться аккуратно, зацепи их только — полыхнет по всему миру, мало не покажется. С другой стороны, особой аккуратности никак нельзя ожидать от сплэттера. Спасибо Гибсону и на том, что, спохватившись, он показал троих евреев и троих древних римлян поприличнее прочих, способных испытывать сомнение (они обращают взгляды на публику с немым вопросом: «никак переборщили?»), но это их задумчивое выражение только усиливает в зрителе чувство, что абсолютно все в этом фильме непереносимо. Если, конечно, зритель не сблевал еще до этого при виде жижи, текущей из подреберья.