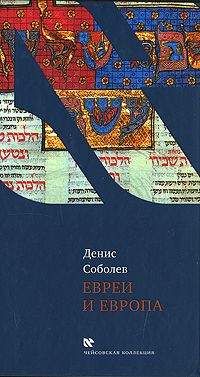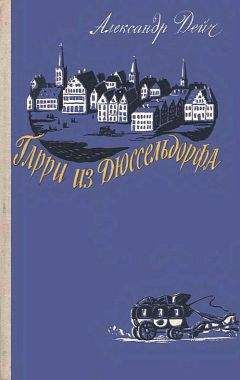Точно так же появляется «я», появляется человек с его биографической историей. Он не присутствует в момент чистого ощущения «сейчас», его нет в моем предстоянии вещам, он расположен вне моего существования в его мгновенной неповторимости. Только выходя за горизонт своего существования-сейчас, человек превращает «мое» (существование) в «я», он задается вопросом «кто тот, кто существует?». Кто есть тот, кто существует среди вещей, его окружающих? Кто есть сидящий за столом у окна, бросивший пустую коробку у входа, оставивший незапертой дверь на балкон?
Из подлинности существования появляется иная биографическая подлинность «я», с личной историей и неразрешенными проблемами. Чаще всего «я» предстает как рассказ о своей жизни, как повествование, как нарратив, как некая сумма тех полувыдуманных историй о себе и мире, которые мы рассказываем и себе, и другим. Может быть, так предписывают законы нашей культуры; может быть, так происходит, потому что человеческая жизнь действительно имеет начало и конец и этим похожа на дорогу. Но в любом случае попросите человека рассказать о себе или хотя бы о прошедшем дне, и вы услышите бесконечные «и тогда я», «и тогда она», «а я ему». Нет ничего более далекого от постоянно ускользающего существования в его мгновенной подлинности, чем подобные рассказы.
Иначе говоря, при первой же попытке сосредоточить мысленный взгляд на своем существовании оно распадается на «мир» и «я». И поэтому, когда мы задаемся вопросом о существовании человека в мире, мы обычно делим его на вопрос о мире и вопрос о человеке. Мы мысленно отвечаем на вопрос «что есть мир» и рассказываем «историю моей жизни». Но мгновенная подлинность существования в каждый из его моментов оказывается безвозвратно потерянной. Тем не менее это существование не фикция, это то существование, сквозь которое мы существуем в этом мире. Мгновенная остановка мысли позволяет нам ощутить если не свое бытие среди вещей, то, по крайней мере, его ускользание. Оно только что было здесь, и оставшуюся за ним пустоту уже наполняет мысль о нем. Но и пустота, и мысль об ускользнувшем бытии, и мысль о пустоте — тоже формы нашего существования в мире. Мысль гонится за ним, как Ахиллес за черепахой. Но оно недоступно мысли, которая всегда опаздывает. И тем не менее это мгновенное ощущение существования среди вещей можно схватить и сохранить. Эта возможность существует благодаря тому, что схоластики и Бергсон, в отличие от нас, называли интуицией. «Мне холодно. Прозрачная весна / В зеленый пух Петрополь одевает, / Но, как медуза, невская волна / Мне отвращенье легкое внушает». Краткая, почти застывшая интуиция существования становится поэзией.
И поэтому поэзия — это в первую очередь искусство виденья. Искусство виденья мира, который и есть мир человеческого бытия. «Розовые сосны, / До самой верхушки свободные от мохнатой ноши…»; «Тонкий воздух кожи, синие прожилки, / Белый снег, зеленая парча…»; «Дикой кошкой горбится столица, / На мосту патруль стоит…» Видеть течение струи меда и полет ласточки, слышать шаги на мосту и невидимые голоса. Вещи вступают в мир человеческого существования не только сквозь свое присутствие, но и благодаря своему отсутствию. Открывая ящик стола, я не нахожу ключ от балконной двери там, где привык его видеть. Отрицание привлекает мой мысленный взгляд к ключу, которого нет, к самой двери, к запертому балкону, к пустыне за стеклом. И так же, сквозь отрицание, вещи вступают в поэзию. «Не отвязать неприкрепленной лодки, / Не услыхать в меха обутой тени…»; «Не слышно птиц. Бессмертник не цветет, / Прозрачны гривы табуна ночного, / В сухой реке пустой челнок плывет…»; «Я не увижу знаменитой «Федры» / В старинном многоярусном театре, / С прокопченной высокой галереи, / При свете оплывающих свечей»; «С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой / Я не стоял под египетским портиком банка, / И над лимонной Невою под хруст сторублевый / Мне никогда, никогда не плясала цыганка».
Впрочем, мир человеческого существования не сводим к населяющим его людям и вещам. Человек переживает окружающий его мир под знаком смысла; или, может быть, даже, как считал Гуссерль, переживает смысл вещей до того, как из этого смысла появляются сами вещи в их материальности. Этот смысл, переживаемый как первичная данность мира человеческого бытия, может быть и вечным метафизическим смыслом, и значением той или иной вещи для меня лично, здесь и сейчас, во всей ограниченности моего существования. Субботняя хала может предстать и символом божественной заботы о человеке, и конкретной возможностью удовлетворить сиюминутный голод. Но и в том и в другом случае смысл уже слит в нашем восприятии с простой материальностью халы, с ее хрустящей коркой и белой ватой мякиша. Оглядываясь вокруг, я почти не нахожу вещи, которая бы ничего не значила для меня. Вещи обращены к человеку, будучи слиты с их смыслом. И именно так вещи появляются в поэзии, обращенной к существованию. «Возьми на радость из моих ладоней / Немного солнца и немного меда / Как нам велели пчелы Персефоны». Такая поэзия, будь то Шекспир или Мандельштам, — это мерцание смысла сквозь материальность вещей, и это проступание упругой материальности мира сквозь призрачную ткань его смысла. «Возьми ж на радость дикий мой подарок — / Невзрачное сухое ожерелье / Из мертвых пчел, мед превративших в солнце».
В то же время человеческая жизнь связана с ощущением изгнания из мира подлинного бытия: из мира бытия под знаком полноты смысла. Человек воспринимает свою жизнь как несамодостаточную — как «существование» с маленькой буквы, которое противопоставлено некому иному бытию в его смысловой полноте. Человек смотрит на самого себя сквозь призму должного или возможного, соотнося свою жизнь с тем, как он должен был бы или хотел бы жить. Человеческое существование несет с собой свое иное. Иначе говоря, человеческое существование — есть непрерывное смысловое самоотрицание. Отрицание своего существования выражается в постоянной попытке различения себя (своего подлинного «я») и своего существования, что неизбежно ведет к проецированию гипотетического неэкзистенциального «я» на иную возможность существования, которую человек и называет «Бытие». Это Бытие может быть и мечтой жить как Просто Мария, и стремлением слиться с трансцендентными каббалистическими мирами. Но, как чистая форма, как постоянно присутствующее иное, «Бытие» есть часть человеческого существования. И следовательно, напряжение между существованием и Бытием должно оказаться частью поэзии, которая обращена на человеческое существование. «В Петербурге мы сойдемся снова, / Словно солнце мы похоронили в нем, / И блаженное, бессмысленное слово / В первый раз произнесем». Это напряжение между миром Бытия и миром существования не обязательно должно принимать форму абсолютного разрыва, но без такого напряжения подлинность человеческого бытия безнадежно ускользает.
Но, даже будучи слитыми со смыслом, с его мерцающим присутствием и самоотрицанием, вещи еще не становятся миром человеческого существования. Этот мир в первую очередь бытие во времени: напряженный горизонт будущего с его двусмысленными тенями и упругое звучание прошлого. Физическое, почти телесное, ощущение потока времени характеризует существование человека и резонирует в поэзии. «Золотистого меда струя из бутылки текла / Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела: / — Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, / Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела»; «Я изучил науку расставанья / В простоволосых жалобах ночных. / Жуют волы, и длится ожиданье — Последний час вигилий городских…»; «Промчались дни мои — как бы оленей / Косящий бег. Срок счастья был короче, / Чем взмах ресницы. Из последней мочи / Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений». Обостренное чувство ускользающего времени становится смысловым фоном, на котором проявляется значение настоящего. Две основные характеристики человеческого существования, смысл и время, смыкаются.
Наконец, следует отметить, что существование в мире — это существование в культуре, в истории, с их путанным многообразием и протеевой изменчивостью. Более того, возможность отделить существование в мире как таковое от существования в истории является иллюзией. Человек воспринимает материальный мир сквозь призму культуры; и точно так же мир отражается в поэзии. «Ну а в комнате белой, как прялка, стоит тишина, / Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала. / Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, — / Не Елена — другая, — как долго она вышивала?». Таким образом, поэзия видит мир сквозь идеи и формы, чье появление и исчезновение являются продуктом (и значит частью) истории. Бытие человека, раскрывающиеся в поэзии, — это неразделимый сплав вечных черт человеческого существования (таких как рождение или смерть) с его историческими формами, с миром в его исторической определенности. Именно поэтому поэзия вообще — и уж тем более поэзия существования, — не способна перешагнуть через историю с ее кровью и насилием. «В Европе холодно. В Италии темно. / Власть отвратительна как руки брадобрея…». «Как на Каме-реке глазу темно, когда / На дубовых коленях стоят города…». «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко! / Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо…»; «И в кулак зажимая истертый / Год рожденья — с гурьбой и гуртом / Я шепчу обескровленным ртом: / — Я рожден в ночь с второго на третье / Января в девяносто одном / Ненадежном году и столетья / Окружают меня огнем».