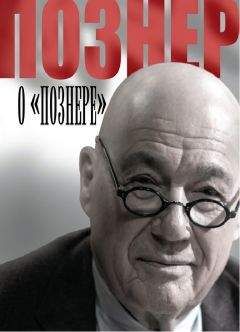В. ПОЗНЕР: Тогда как понять ваши слова о том, что погоня за демократией в России — нонсенс, ни к чему? Почему?
М. КАНТОР: Владимир Владимирович, если выбирать фразы из… А это записал, наверное, какой-то журналист с моего… Я же помню, эту фразу цитировали мне много раз. Какой-то журналист записал по телефону. Вы и не то там найдете. Очень часто в моем романе «Красный свет» вспоминают и мне цитируют фразы секретаря Гитлера. Но их написал секретарь Гитлера. То есть написал я, но от лица секретаря Гитлера.
В. ПОЗНЕР: Это понятно. Это — нет вопросов.
М. КАНТОР: Слово «погоня за демократией»… Я же разговариваю с вами, и вы слышите, как я говорю.
В. ПОЗНЕР: Хорошо. Прямой вопрос. Где-то вы сказали (может быть, опять это вне контекста), что Россия не может быть демократической страной, что-то в этом духе.
М. КАНТОР: Если вы мне дадите три минуты, я попробую развить этот тезис.
В. ПОЗНЕР: Демократия и Россия.
М. КАНТОР: Да. Демократия, Россия и мое отношение к демократии вообще и к демократии в России в частности. Чтобы ответить на вопрос о демократии в России, я хотел бы демократию рассмотреть и как идею общественного устройства, и в ее историческом бытовании. Потому что отдельно рассматривать идею, не внедряя ее куда-то, невозможно. Мы ее пересаживаем в тундру, мы ее пересаживаем на Марс, и она мимикрирует, она видоизменяется. Нет какой-то одной таблетки, которую можно дать трем разным людям. Это будут три разных эффекта. Поэтому, как вы прекрасно помните, наверняка лучше меня знаете историю всех этих разговоров, в какой-то момент у нас стали говорить, что у нас русская демократия. «Нет какой-то вообще демократии», — стали говорить те люди, которые всю ее выкрутили просто наизнанку. И стали говорить: «Нет, в Англии — английская демократия, а у нас русская».
В. ПОЗНЕР: Они ее назвали «суверенной».
М. КАНТОР: Суверенная демократия. Допустим. И это меньшее из того, что можно было сказать. А можно было, как говорил мой покойный папа, сказать «40 бочек арестантов». Потому что абсолютно открытое поле для любых фальсификаций. Демократия действительно крайне слабая институция. И мало того, демократию уже один раз (это было в античности) благополучно похоронили.
В. ПОЗНЕР: Вы имеете в виду греческую?
М. КАНТОР: Конечно. Из которой выросла постепенно олигархия. Это была Римская республика. И чем это закончилось, мы все замечательно знаем…
В. ПОЗНЕР: К сожалению, не все.
М. КАНТОР: Многие историки, например Теодор Моммзен или Гиббон, связывают падение Римской империи и тот хаос и ужас, который воцарился на несколько веков в Европе, с развратом нравов, с падением гражданской ответственности, с невероятной жадностью и алчностью, с олигархией, которые заменили демократию, растлили общество и привели рано или поздно к падению огромного цивилизационного организма. Он просто распался на части, он сгнил. И это однажды уже было, однажды это с демократией произошло. Поэтому как минимум мы, исследователи или потомки того, что случилось, глядя назад, можем предполагать, что данная вещь чревата данными последствиями. Это может произойти. Мало этого, это произошло с высшей степени культурными людьми, статуями которых мы до сих пор любуемся, мозаики которых коллекционируют музеи, а драмы идут на сценах. Однако с ними это случилось. У нас есть гарантия, что это не случится с нами? В чем эта гарантия? Она где записана?
В свое время Платон написал, по крайней мере, две, но две очень последовательных книжки. Одна из них — «Республика», которая у нас переводится как «Государство», а вторая просто называется «Законы», в которых он описывает процесс мимикрии демократии, как она видоизменяется, как подменяется чувство гражданина чувством собственника, а чувство собственника чувством либо олигарха, либо лакея. Это, к сожалению, заложено в демократии. Когда демократия сочетается с рынком, с либерализмом, еще с чем-то, опасность возрастает.
В. ПОЗНЕР: Она идет бок о бок с этим, мне кажется, нет? Рынок без демократии — это какой-то…
М. КАНТОР: Правильно. Рынок без демократии — нонсенс. Однако культура с рынком — тоже подчас нонсенс. В свое время рынок убил Рембрандта, в свое время рынок убил Рембо. Рембрандт — жертва рынка. Победили малые голландцы. Ранний Рембрандт замечательно востребован голландским обществом, которое… Освободившись, Нидерланды захотели иметь не католические соборы с гигантскими сценами жития святых, но каждый захотел иметь свой натюрморт со своей селедкой, со своим очищенным лимоном и бокалом белого вина. Так сказать: «Да не надо мне вашей Мадонны. Я вот здесь сижу, и я, Ганс Якоб Гриммельсгаузен, достаточно достоин того, чтобы иметь вот это вот мое и гордиться сам собой». Дивно. Получили великолепнейших малых голландцев. Таким же начинал и Рембрандт, с портретов бюргеров, с «Ночного дозора» и так далее. А когда он стал писать «Блудного сына», это уже стало никому не нужным, он умер в нищете.
В. ПОЗНЕР: Вы упрощаете. Слушайте, он был гулякой, он тратил деньги невероятно.
М. КАНТОР: Господь с вами!
В. ПОЗНЕР: У нас с вами два разных Рембрандта.
М. КАНТОР: Это возможно. Но мой — подлинный.
В. ПОЗНЕР: Хорошо. Просто я очень им интересовался, очень его люблю.
М. КАНТОР: Поверите ли, я тоже. Так вот. Возвращаясь к демократии. Это был у нас такой факультатив. Демократия есть идеал. Демократия есть некоторое идеальное общество, в котором выборы свободных людей приводят к законодательству, которое обеспечивает равенство граждан. Мы прекрасно понимаем, что каждый разный демос, каждый разный народ каким-то образом формирует свое представление о справедливости, собственно, это зафиксировано в документах каждого народа. Нет одной справедливости у монголов и у шведов. Это две разные конфигурации сознания. Хотя базовые ценности, безусловно, сохраняются. И несмотря на то что шведы — христиане, а монголы — буддисты, скажем, это все на каких-то базовых именно вещах, которые идут от Винни-Пуха у нас, а от кого у монголов, от какого-нибудь Винни-Пуха, они должны бы коррелировать. Но не коррелируют. Этого буквально, видимо, происходить не может.
В. ПОЗНЕР: Но я возвращаю вас к России. Почему вы?..
М. КАНТОР: Потому что дом не строят с крыши.
В. ПОЗНЕР: А крыша — это демократия?
М. КАНТОР: Именно в этом и состоит парадокс внедрения демократии, как и был парадокс внедрения христианства. Как христианство внедряли сверху, так и демократию стали насаждать сверху. И это привело к определенным проблемам сегодняшнего дня, к таким, я бы сказал, необходимым и неизбежным упрощениям, которые уже становятся ради демократии недемократичными. Какая-то часть населения просто не знает, что она строит, собственно, — капитализм или…
В. ПОЗНЕР: Так она вообще не строит. Она себе не говорит, что я строю, вернее, эта часть. Вообще население себе…
М. КАНТОР: Я думаю, что надо начинать с образования, медицины и внедрения просвещения в массы. Я в этом смысле абсолютный народник. И уже на основании просвещения и образования говорить о демократии. Когда демократические институты касаются олигархии, мне не представляется, что это конструктивно.
В. ПОЗНЕР: Но где же вы видите олигархию? Ее же нет давно. Олигархия — все-таки это не только очень богатые люди, это люди, которые имеют немалый политический вес, которые управляют процессом. Кто? Если только считать, что реальные руководители России — олигархи. А так-то… Они были в девяностых годах.
М. КАНТОР: Я, признаться, не знаю, кто реальные руководители России. Мне очень часто хочется найти 5–6 человек, так, гипотетически, чтобы представить, как за темным занавесом эти пять человек встречаются и решают. Те фигуры, которые я вижу на свету, на роль буквальных руководителей не годятся. Чаще мне хочется сказать, что руководят сила вещей и какое-то представление о том, что быть богатым лучше, чем быть бедным. Это, вероятно, та самая государственная идея, которая появилась вместо социалистической. Но как я не любил идею развитого социализма, так же я не могу приветствовать идею…
В. ПОЗНЕР: Извините, что я вас перебиваю. Ваш отец был философом, он был марксистом по своим взглядам?
М. КАНТОР: Мой отец при жизни не печатался. Он был редактором журнала «Декоративное искусство» и писал статьи по эстетике. Но он придумал, и я думаю, это значительная выдумка, он придумал свою оригинальную философию истории, которую потом мы с братом и моим старшим сыном собрали и издали первый том пока. Это называется «Двойная спираль истории». Это культурология, это философия истории, построенная на типологии культуры. Был ли он марксистом? Он считал первой парадигмой истории бога и религию, поэтому в этом смысле назвать его в чистом виде марксистом было бы затруднительно. Но то, что он симпатизировал идее равенства, в частности нашедшей воплощение в «Капитале» Маркса, это тоже отрицать невозможно. Он не был антимарксистом. Он был человеком, который считал Маркса крупным философом и находил ему место в философии и истории.