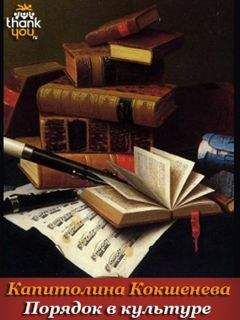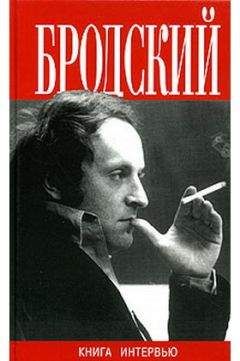«Пусть все живут» — и миролюбиво, и всечеловечно, и всеобъятно-слезливо, и противно-сентиментально заявляет автор. Но тут же, через несколько абзацев своей поэзы восклицает: «Есть кровь, и почва, и судьба. И речь, пропитанная ими». Красивая фраза эта могла бы быть подлинной и мужественной, если бы хотя бы в чем-нибудь конкретном она узнавалась (не считать же, что у всех, сидящих за символическим прилепинском столом есть некая «одинаковость» — не знаю, правда, как и какой «кровью», а особенно судьбой, измерить «одинаковость» срочника, политика и миллиардера с Рублевки). Впрочем, я понимаю — Прилепин, если и не начитался, то «полистал» книги, излагающие концепции этнонационализма.
Мне противно было читать эту неумную «поэму» Захара, пропитанную каким-то духом вертлявости сразу по всем направлениям. Русский народ называет этот процесс так: «Одна ж. а — семь хвостов». Представляю, какую нацию построит такой активист, тем более, что он сам признается, что ходит по нашей земле со странным чувством, что ему «все отзывается вокруг»: «Наверное, так ходят лесники по любимому лесу». Что тут сказать? В какой-то горячке примиренчества писалась несчастная поэма — слишком виден грим на чужых мыслях, усвоенных плакатно и с ненужным доверием к ним; слишком мало подлинности и собственной внутренней работы. Прилепин (бывший нацбол и омоновец) теперь способен к большой и неразборчивой «человечности» — и это единственный итог его плохой «поэмы». Печально.
На самом-то деле, о чем умеет писать в полную силу Захар — это о любви, свободе и «пацанской» дружбе. Свободу он понимает по-мужски: ему кажется вполне подлым желание избавиться от всякой ответственности, ему ненавистна пустая трескотня рыночного времени, его герои не нуждаются в том, чтобы кто-то снял с них чувство ненависти к ненастоящему, «бумажному» миру. В «Жилке» как раз и переплелись эти главные темы — любви и свободы, особенно обостренно чувствуемой перед угрозой ее потерять.
Рассказ дышит просторно, вольно, но постепенно наполнится сдержанной тоской, чтобы потом, в финале, выплеснуться радостью мужской дружбы. «Жилка» — просто рефлексия-воспоминание о ссоре с женой и прозрачном мае; о большой тайне любви между этим мужчиной и этой женщиной, — о тайне, неизбежно убывающей в усталой, «почти неживой» его женщине. Прилепин много сказал существенно-простого о своем герое в этих скупых описаниях — нет, не секса, но состояния «мы вместе» через самые тесные, подспудные объятия— во сне. Эта тесная телесность, эта переплетённость, врастание друг в друга — будто еще и страх потерять друг друга, будто чистая удивляющая радость одной плоти мужа и жены. А потом будут утраты — жизнь ли, сами ли украли друг у друга эту хрупкую близость? «Я обнимал ее, — но она отстранялась во сне…Я помню это ночное чувство: когда себя непомнящий человек чуждается тебя, оставляя только ощущение отстраненного тепла, как от малой звезды до дальнего, мрачного, одинокого куска тверди. И ты, тупая твердь, ловишь это тепло, не вправе обидеться». Жесткая пластика рассказа становится несколько иной именно тогда, когда герой помнит о «счастье любви»: «А ведь какое было счастье: тугое как парус». Жар от любовных строк остается, однако, внутренне-сдержанным. Вообще в любовной теме Прилепин умеет себя «держать в узде», что только лучше и ярче передает ощущение благодарной — мужской — сильной нежности: «Верность и восхищение — только это нужно мужчине, это важнее всего, и у меня было это, у меня этого было с избытком! — вдруг вспомнил с я благодарностью». Мужчина без своей женщины-жены, которой он дарует материнство, отлучен слишком от многого: отлучен от полноты мира, от радости сердца и «огромного света». Да, собственно, счастье, которое было, и делает его бесстрашным и сильным, возвращает ему достоинство — он не желает бегать как заяц, петляя и заметая следы, от опасности (возможного ареста). Вообще этот переход в состоянии героя напомнил мне классическое: толстовского Пьера, который вопрошал, — и это вы думаете взять меня в плен? Мою бессмертную душу?
Да, вечером герой снова поругается с женой (привычная ругань, обрамляющая рассказ — это своеобразное «ношение ада в себе»). Впрочем, все равно и это нестрашно, — ведь он навсегда знает, «что такое ладонь сына и дыхание дочери», разрывающие его сердце нежностью; ведь в нем навсегда это звонкое чувство любви-памяти к своей жене.
«Жилка» — это еще и состояние героя в канун возможного ареста (ведь он «занимается революцией»). Впрочем, как он ей занимается, мы не узнаем, кроме того, что «водили… вдвоем страстные, бесстрашные колонны пацанвы по улицам самых разных городов нашей замороченной державы, до тех пор, пока власть не окрестила всех нас разом мразью и падалью, которой нет и не может быть места здесь».
Главное другое — главное что эти, которые схватили его друга Хамаса, (а в конце рассказа он свободен), эти хотят «лишить меня тепла, простора, мая». Революция и возможная опасность тут тоже даны как бы и не всерьез, но для определенного психологического конфликта с тем сугубо гладким и причесанным культурным пространством, которое любит обуржуазенная проза.
Революция — социальное или асоциальное действие у Прилепина? Нет, не социальное — у Прилепина и его героев нет программы, стратегии, тактики, крупных политических идей. И Санькя, и герой «Жилки» никакие ни островские Павки и ни горьковские Павлы. Прилепинский герой совсем не готов к тому, чтобы корректировать ход истории (ход жизни в России) сознательной жертвой. Да, герой-контрактник в «Патологии» рискует, но и не размышляет совсем об этом. Да, герой «Жилки» тоже рискует, но и оправдание-опору своему риску ищет не в мыслях, а в действиях. И хотя они иногда и вспоминают «режим», — все же критика эта касается эфэсбешников, ментов, т. е. людей структуры, людей «в форме». Никакого революционного мировоззрения собственно нет и в помине, как нет и героя, пытающего жизнь, проверяющего на деле какие-либо идеи жизни и революции. И это понятно — если бы все это было, да к тому же изложено всерьез, «по-взрослому», Прилепину бы не дали развернуться. Ведь в «Саньке» «революция» всего лишь выступает в легкой деструктивной форме, а значит — приятно-асоциальной (поговорить же о революции, оппозиции, сопротивлении — это вам, пожалуйста, сколько угодно можно! Все равно давно никто и никого — если не выгодно — не слышит!) НО асоциальность-протестность в современных условиях, сумблимированная в литературу, стала стержнем обновления самой литературы. Это-то всем критикам (независимо от прежних позиций в литературе) и понравилось. После придурков, которые ели свой кал; после мерзких старушечек Авдотьюшек, странного народца-уродца и рядом с припадочными извращенцами, дебилами, например персонажами елизаровских «Кубиков», прилепинский герой выглядит положившим предел литературному нигилизму и обладающим шансами противостоять антиидеалу современной литературы (здесь я должна уже вспомнить и С.Шаргунова с его фантастическим — для меня — оптимизмом). Конечно, они писали контрлитературу по отношению к мейнстриму — всему известному и растиражированному.
О каких «шансах» я говорю?
Во-первых, мы видим некоторое возвращение на классические устойчивые позиции: над жизнью у Прилепина и Шаргунова все-таки есть Судия, а значит — не все позволено. Для моего поколения в этой позиции нет никакой смысловой и жизненной новизны — но Прилепин и Шаргунов высказали ее после чудовищной деструктивности «ликвидаторской литературы» постмодернистов, потому и прозвучала она оздоровляюще.
Во-вторых, у Прилепина нет радикализации повседневности: обыденное, частно-интимное, напротив, для него альфа и омега бытия; привычный реестр счастья — это и есть внутреннее ядро его прозы. Обыденность совсем не деспотична — она всегда источник радости, потому что в ней была существенная простота — был дедов дом, была бабушкой поджаренная картошка, был «весь этот день и его запахи краски, неестественно яркие цвета ее, обед на скорую руку — зеленый лук, редиска, первые помидорки, — а потом рулоны обоев, дурманящий клей», а «под утро пришла неожиданная, с дальним пением птиц, тишина — прозрачная и нежная, как на кладбище» («Грех»). Была яркая и жаркая ранняя любовь, в которой все было скромно и бестелесно, но которая научила понимать собственное тело, угадывать грех его желаний. «…Всякий мой грех… — сонно думал Захарка, — …всякий мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, — оно легче пуха. Его унесет любым сквозняком…». Чистая и ясная проза.