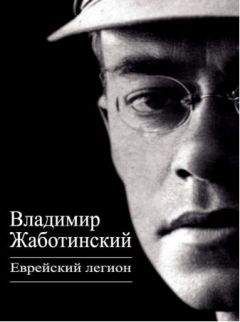Пойдите, поищите себе простой, но всем нужной работы. Мы все через это прошли.
Друг мой, если бы мне сейчас было двадцать, я бы сейчас горы свернул, ведь посмотрите вокруг — теперь ли до безделия?
Лондон, 27.11.1938.
С самыми горькими словами упрека Жаботинский обращался к той части еврейской молодежи Восточной Европы, которая не желала внять призыву к эвакуации (см. ст. «Эвакуация») и, как будто под наркозом, ждала надвигающегося конца:
Говорят, что там есть и молодежь. Простите, это невозможно. «Молодежь» — это не арифметическое, да еще и негативное понятие — т. е. «не взрослый». Это понятие позитивное, в точности, как весна, которая не есть недоросшее лето, но есть особое состояние природы. Весна без набухающих почек, не несущая жизнь всему живому,— не весна.
Молодежь в такое время не может взирать на все с безразличием. Если она ведет себя так, это значит, что ее не существует. Это просто клевета на человечество, на Создателя — говорить, что человек может быть молод, и не спрашивать себя в такой страшный момент: «Для чего я живу? Какое право у меня жить? Живу ли я?».
«Усыпленные хлороформом», «ха-Машкиф», 16.6.1939.
«Университеты превратились во фронт освободительной войны».
Все, чего Жаботинский ждал от молодежи вообще, он особенно хотел видеть в студенчестве — самой образованной части молодежи. Он не мог представить себе, что эта передовая часть молодежи может остаться в стороне и не участвовать в решительной борьбе, которую вел еврейский народ за свое существование. С ностальгией вспоминал Жаботинский свои студенческие годы, когда:
Особенно проявлялось брожение в среде учащейся части общества. Трудно представить молодому читателю, какую огромную роль в жизни общества играли тогда университеты. Определение этого заведения как разновидности школы было предано полному забвению. Университеты превратились во фронт освободительной войны. Если бы спросили нас: «Кто же станет во главе, когда настанет тот день?» — мы бы ответили не задумываясь: «Конечно, студенческие комитеты!». И так оно и было в Одессе, когда пробил час. Во время революции 1905 года рабочие электростанции обратились именно к студентам за распоряжениями — тушить уличное освещение или нет?
«Повесть моих дней», в сб. «Автобиография».
Совсем другое студенчество предстало перед Жаботинским, когда он боролся за формирование Еврейского батальона. Сионистское движение (ниже «партия») предало анафеме Жаботинского, его не допускали до трибун и до газетных полос. И именно один из студенческих союзов — Швейцарский — был во главе этой травли. В письме своему другу и сподвижнику Меиру Гросману Жаботинский высказывал горечь по поводу такого неблаговидного поведения студенчества в самый решительный момент:
И воспитали молодое поколение, во всем подобное воспитателям. Друг мой, я знаю, что Швейцарский студенческий союз выразил тебе протест по поводу опубликования моего интервью. То, что они «против Легиона», мне безразлично — что они знают о нем? Кто им о нем рассказывал? Какая цена приговору, вынесенному лишь на основании обвинительной речи? В любом случае, если Легион будет создан, в него пойдут все, кроме трусов,— не это меня сейчас заботит. Но это стремление «не пущать», появившееся у молодежи,— это нечто новенькое, о таком мы и не слыхивали. Странная молодежь у нас в партии. Странное дело — уже несколько лет, как мы видим приток молодых сил, а ничего нового, решительно ничего не ощущается. Так — ни рыба, ни мясо.
Мы в их годы создали Гельсингфорсскую программу — что сделали они? Чего хотят? Они всем довольны. Довольны, находясь в партии, занимающейся исключительно сбором и распределением пожертвований в момент, когда все вопиет к решительным действиям. О чем они все думают? Они будят спящих? Требуют решительных шагов? Нет — они только протестуют против напечатания еретической статьи. Знаешь, кого они напоминают? В гимназии был такой тип «первого ученика». Он был прилежен, аккуратен, послушен. Классный наставник был им доволен, а он был доволен классным наставником. Все чин-чином, все довольны. Но своему сыну я не пожелал бы такого обидного прозвища. Молодость — почетное звание, и далеко не всякий недавно родившийся достоин его.
Ты — один из достойных. Жму твою руку и жду.
«Ди Трибуне», 15.10.1915.
Единственный университет в Эрец Исраэль не только не был университетом в полном смысле слова. Он был далек и от того, чтобы стать «фронтом освободительной войны». Наоборот, власть в нем прочно захватили «баре», которые насаждали идеи, способные погубить дело сионизма. Жаботинский обратился к студентам Еврейского университета с призывом проявить элементарное уважение к самим себе, дать отпор антисионистским тенденциям:
В одной из газет было опубликовано «разъяснение», что, дескать, задача молодежи — набираться знаний, а не вмешиваться в политическую жизнь. Вы должны знать, что это противоречит всем установлениям, самой морали сионизма.
Согласно положению Сионистской организации, право избирать в нее представителей и право быть избранным имеет всякий, достигший 18-летнего возраста. Это значит, что он не только вправе, но и обязан вмешиваться в национальную жизнь, иметь свое мнение по поводу вносимых предложений, голосовать за них или против.
Во-вторых, в любой еврейской организации в Эрец Исраэль, а уж тем более в Профсоюзе, средний возраст не превышает среднего студенческого возраста. И пока никто не утверждал, что эти молодые люди не должны вмешиваться в политическую жизнь,— наоборот!
Я признаю, и вы, наверняка, признаете, что молодой человек вряд ли готов руководить национальным движением, жизнью Страны. Но у него есть полное право оказывать помощь руководству, поддерживать его, если последнее отвечает предъявляемым к нему требованиям, и решительно добиваться его смены, если таковое требованиям не соответствует...
Еврейский университет — двойной обман. Мало того, что его название «университет» — т. е. высшая школа, призванная давать молодежи глубокие знания, но на самом деле там нечего делать молодежи, там попросту нет ей места, там занимаются Бог весть чем, а молодежь вынуждена ехать за море в поисках образования, в то время как молодежь диаспоры мечтает об Еврейском университете в Иерусалиме. Мало этого обмана, так еще хотят превратить это заведение в рассадник антинациональных идей.
Человек, вставший во главе заведения, не имеющий никаких научных заслуг, дающих ему на это право, а только всеми признанную напористость, использует свою должность для насаждения и пропаганды идей, не имеющих ничего общего с сионизмом. И вокруг этого узурпатора объединились люди, которым вообще нечего делать ни в сионизме, ни в самой Эрец Исраэль, люди, пытающиеся превратить и университет, и все вокруг в очередное гетто.
Ни в одной стране студенты не допустили бы такого унижения заведения, честь которого они призваны охранять в неменьшей степени, нежели их преподаватели. И если вы будете и дальше это терпеть, вы принесете университету больший вред, чем распространители гетто — ваши преподаватели. Национально мыслящей молодежи нельзя находиться под одной крышей с национальными изменниками. Или должны хлопнуть дверью вы, или должны уйти предатели.
Письмо М. Перельмутеру и М. Хаимовскому, Иерусалим, 22.12.1929.
Жаботинскому был близок дух «корпораций» — студенческой вольницы. Он писал по поводу еврейской корпорации «Хасмонеи» в Риге:
Я учился в стране, где корпорантства не было; думаю, что евреям, выросшим вне германских влияний, оно всегда останется чуждо; но само по себе оно прекрасная вещь. Настоящая корпорация учит не только дисциплине. Она создает и чувство ответственности брата за брата. Каждый бурш отвечает за своего фукса во всех смыслах: аккуратно ли тот ходит на лекции, бреется ли как следует, чисто ли одет, учится ли еврейскому языку, не срамит ли корпорацию неблаговидными действиями. Если у корпоранта беда, болезнь, затруднения с уплатой за «правоучение» — дело не может ограничиться сочувствием: корпорация должна помочь осязательно, и во что бы то ни стало. Вообще надо помогать брат брату во что бы то ни стало. Я видел сценку: один из хасмонейцев приехал на вокзал с двумя чемоданами, а носильщиков не было. По площади проходил другой, с барышней. Они переглянулись: второй сейчас же извинился перед барышней, оставил ее на скамье под деревом, а сам пошел тащить чемодан; и барышня была хорошенькая. В мое время, в Одессе или в Риме, это было бы немыслимо.
Все это связывает людей на жизнь. Это гораздо прочнее, чем просто «дружба». У меня в гимназии было девять друзей, в университете еще больше; но, за двумя или тремя исключениями, я их теперь называю по имени-отчеству — впрочем, я и не помню, как их зовут; и если бы к кому нибудь из этих забытых я обратился в беде, он бы счел это наглостью. Но «бундес-брудер» отзовется по братски через пятьдесят лет.