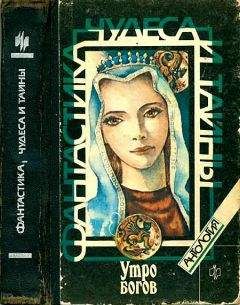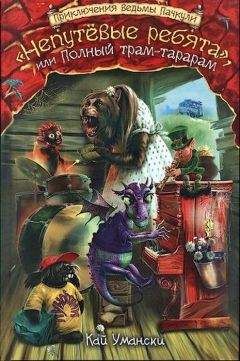У галечного пляжа трясогузка прыгает по красному граниту. Минуту спустя попутная струя несет меня мимо.
Ладони к вискам, прикрыть глаза!.. Еще несколько мгновений — и ты видишь пыльную дорогу, непривычное отражение в стекле автобуса своего порозовевшего лица, мальчишечьей пряди на лбу, и глаз, глаз — ее и твоих… они смотрят из темноты вечера за окном, они ловят будто бы зеленое поблекшее крыло заката в распадке, неровную линию почерневших кустов стланика на сопке, но, отраженные в стекле, видят лишь двоих. Ее глаза. Мои глаза. Тонут голоса в гуле и дребезге на крутых поворотах.
Еще немного…
Я вспомню.
Точно камень в перстне, засияв под лучом, тот день остался и запомнился.
Черная «Волга» несла меня к той реке четверть века спустя. Была неожиданная командировка на Дальний Восток. Повезло! Пересекая меридианы в ночном самолете, я решил: поеду в долину.
Я должен увидеть ее. Может быть, удастся искупаться в реке. Стоял тихий, ясный август. Шофер с удивлением смотрел, как я растянулся на галечном пляже, ворошил камни, дергал малиново-красный кипрей, и так вот, с журналистской сумкой в одной руке, с букетом в другой, сел на заднее сиденье, закрыл лицо щемяще-ярким кипреем.
И снова переживал эти мгновения…
Нить будто бы связывает ее, меня, эту реку. Холодная вода несет меня, несет, куда? Не пропустить мгновения… Небо. Голубая пойма. И вот она… Ее платье, тени на лице от поднятой руки. Кажется, то, что надо: угадываю выражение ее лица, вижу нить, которая протянулась к ней. Нет, проще: на пологом холме, под ногами ее голубые заросли, над головой — неяркое небо, краски которого приглушены. Неяркий, почти серый день. Она в центре этой панорамы, где столько голубого и голубовато-серого соединилось для того, чтобы высветить ее фигуру. Все. Это мгновение я безошибочно выбираю. Самосиянное, оно не требует постороннего света. Я не спутаю его ни с каким другим. Если быть точным, то надо добавить подробности: резкий поворот головы, взгляд — вот она, рядом. Она все видит, поднимает руку, рядом с ней бежит мягкая тень. Солнце пересекает кромку облака.
Стук в окно. Я распахнул обе створки его и наугад, без промедления сказал:
— Жанна, я сейчас, подожди!
Она стояла на тротуаре, я не видел ее лица, но угадывал его выражение. Собрался, мимоходом глянул в зеркало, выключил свет — в комнате и кухне — миновал деревянную террасу, вышел в подъезд; налево — десять шагов и еще десять шагов по тротуару. Молча жму ее руку. Тогда в Москве телефоны были редкостью. Не потому ли мы чаще встречались?
Ответственная минута: окно нашей квартиры распахнуто, нужно ли возвращаться, чтобы закрыть его изнутри на задвижки? Мы совещаемся вполголоса. Я высказываю гипотезу, что скоро вернутся родители и родственники, затем закрываю одну створку, прикрываю вторую, и успеваю даже щелкнуть маленькой задвижкой этой второй створки, просунув руку в форточку. Не страшно. Никто не влезет в окно. Мы идем к Малой Андроньевской улице, застроенной такими же двухэтажными домами, как и Школьная, моя родная улица, бывшая Рогожская Ямская. Это широкие улицы, где много света, разница лишь в том, что Рогожская Ямская расположена так удивительно, что весной и осенью солнце висит над самой булыжной мостовой — и утром и вечером. Она тянется чуть ли не на километр строго по направлению восток — запад. У восточного ее конца, у бывшей Рогожской заставы, стоял раньше камень с выбитой на нем надписью: «До Москвы — две версты». На западе ее панораму замыкает такая же линия светлых двухэтажных домов с зелеными и красными крышами. За эту линию садится солнце и от нее на закате тянется густая тень, поглощающая простор Рогожской Ямской, серые камни мостовой, мой дом и два наших окна.
Вот и поворот на Малую Андроньевскую; этого места больше никто никогда не увидит: здесь лет через двадцать после того вечера построили новые дома — высокие, большие, белые, закрывшие своими одинаковыми параллелепипедами и простор, и свет солнца на закате, стершими память о прежней улице, названной так по Андроникову монастырю.
Монастырь остается у нас за спиной.
Через минуту откуда ни возьмись набежало темное облако. Редкий теплый крупный дождь. Ветер. Мы остановились под тополем. Несказанные минуты, которые я вспоминаю вот уже больше тридцати лет.
Что это вдруг случилось со мной? Я словно только что родился, я стал зорче, я вижу каждый камень блестящей влажной улицы, слышу звук каждой падающей капли. На небе еще остался закатный свет, и только над головой появилась туча, источающая звонкий ливень. Все это я замечаю. И до восторга, до радости отдается во мне каждый звук. Причудливо смешались последние краски заката с огнями города. Сначала налетел один шквал, потом второй, и вот еще сошлись сразу три шквала в одном порыве. Мимолетная гроза, вспышки молний…
Не узнавал я эту улицу, не узнавал себя. Невыразимая тайна этого вечера озадачивала меня, я молчал, прислушиваясь к звукам, и чудилось иное: не дождь и не ветер, а голоса. Они звучали во мне самом. И музыка. Пленительная мелодия, ни на что не похожая, музыка без названия.
Жанна дернула меня за рукав куртки. Еще раз и еще. Все вокруг было другим. А дома стали ниже. Да и деревья тоже…
Нам по девятнадцать лет…
Дождь утих. Прояснилось. Тонкий розоватый оттенок неба растворялся, уступая место глубокой синеве. Зажигались звезды над нашими головами. И я впервые следил за ними.
— Пойдем!
Голос Жанны.
Куда мы направлялись? В парк. В парк, где зимой мы катались на коньках, а летом иногда смотрели, как танцуют недосягаемо рослые русоволосые принцессы на круглой дощатой площадке с деревянным навесом на сказочно прочных дубовых столбах, поддерживавших заодно и небо над оркестром. Но теперь, с этого лета, мы сами брали билеты на танцверанду, с пятью знаменитыми ступеньками, разделявшими в детстве в моем представлении небо и землю (это когда я приезжал с родителями в Москву еще школьником).
Пока мы шли по изменившейся улице под рядами шумевших тополей, я все пытался угадать смысл происшедшего. Что это за вихри, умчавшиеся вверх? Что означали тончайшие оттенки света, блики вокруг меня?
А на знакомой веранде я был застенчив, как всегда, мне трудно было танцевать, мне нужно было преодолевать сопротивление невидимых пружин и к тому же управлять ими, иначе неведомые силы заставили бы волноваться так, что даже лицо мое искажалось до неузнаваемости. Стесняясь не только людей, но и себя, я в тот год и раньше все твердил какие-то правила и запреты, пытаясь следовать книгам.
Почти сбитый с толку теми невероятными трудностями, которые возникали при каждом, пусть беглом разговоре, когда меня коробила откровенность, легкость, несерьезность — так казалось тогда — я впадал в отчаяние и замыкался. Еще немного, и мне заново пришлось бы начать учиться ходить или смеяться. Как счастливы были сверстники, не читавшие книг тех лет, не выдумывавшие мир, а видевшие его прямо, без оптических приборов, без этикеток, без советов и запретов, сковывавших меня. Но позже я порвал с этим, пришла самостоятельность, мне стало вольнее, дышалось легче. И всегда, где бы я ни был, я нет-нет да и вспоминал удивительный вечер.
Это было начало. Мир менялся. Еще быстрее менялся я.
* * *
Она спросила позднее:
— Что это было с тобой тогда, на Малой Андроньевской, помнишь?..
Конечно, я помнил. Но не мог ответить. Подыскивал слова — и не мог подобрать нужные. Что было там, на пути к Таганскому парку?
— Я испугалась за тебя, думала, тебе плохо! Ты потерял дар речи и упал бы, если я тебя не поддержала бы. Ты был какой-то ненормальный тогда, и даже на площадке от тебя шарахались, как от прокаженного. Помнишь?
Мне было приятно, что она помнила это. И меня не коробило, что она называла это по-своему. Я мог бы вспомнить о таких же вот превращениях, уже описанных до меня в книгах. Когда человеку семнадцать или девятнадцать, это случается, это бывает. Ответы, в общем, есть. Но я бы возмутился, если бы кто-нибудь попробовал назвать это знакомыми, подобающими случаю словами. Человек, конечно, растет, изменяется, развивается, созревает. Все так. Но это все же полуправда. Разве дело в физиологии? Разве вся наша жизнь не есть физиологический акт или что-то вроде этого? Я против подобных объяснений, заменяющих один вопрос — другим, более того — пренебрегающими внутренним нашим содержанием. Есть слово: душа. Есть другие слова. Есть слово: тайна. Есть слово: несказанное. Как найти ответ?
…Мы шли с ней по старой нашей улице, по Рогожской Ямской, которую сначала разрушили наполовину, сломав дома, а потом начали реставрировать и восстанавливать то, что разрушено, ибо непростительно было бы никому уничтожить то, что неповторимо Ведь это единственная улица московских ямщиков. Я помню еще железный крюк коновязи, который торчал из стены в комнате, где я родился.