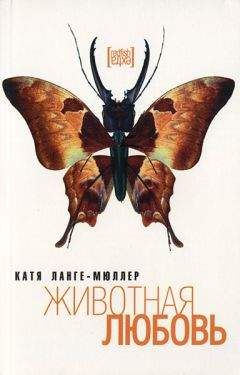Последняя радость: в конце концов
Успокоиться возле родных мертвецов.
Покуда живу, останусь при деле:
Чтобы даты стереться не смели,
Чтоб хотя бы память была жива
О тех, над кем разрослась трава.
Радость единственной доброй вести:
Вместе страдали, покоятся вместе,
Усопшие жмутся друг к другу, пока
Бросаю комья земли и песка:
Знаю, мертвым глина и гравий
Станут отчизной, данной въяве,
Тем, кто вместе страдал, да будет дана
Одна земля и смерть одна.
ЛЮЦЕРНА
Расцветет по весне,
Лето, будто в огне,
Осень седая
Петь так хочется мне,
О, как хочется мне!
Убеждая. Страдая.
Мы поем ввечеру,
Песнь звенит на ветру
Задушевно и верно.
Так мы грезим, дремля.
Над покровом - земля,
А покровом - люцерна.
ЭПИТАФИЯ ДЛЯ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ
Кто жил, страдал и здесь погиб когда-то?
Где высечены имя или дата?
Отдельной - ни о ком не сыщешь вести.
Страдали вместе и почиют вместе.
Да будет вам венцом небесной славы
Вся эта ширь полей, ветра и травы.
БАШНЯ
И зорко, и ожесточенно
Ты, башня, ждешь в дали степной
Меня, ватаги обреченной
Бойца, забытого войной.
Ты в милосердии сурова,
Стоишь, как дольний мир, стара,
И ты меня принять готова,
И тьма твоя ко мне добра.
Тебя не защищают рати,
Кто умер - сам к тебе придет,
Молчанье здесь взамен печати,
Для верного распахнут вход.
Переживут твои причалы
Агонию тщеты мирской.
И гость последний, запоздалый,
Войдя в тебя, найдет покой.
СМЕРТЬ В ПУСТЫНЕ
Вдали посеяна судьбой
Смерть над рекою голубой,
И ястребы в лазурном поле
Ландскнехты смерти, и не боле;
И месяц, проповедник старый,
Спеша к воде, наводит чары;
И сердце мается мое
Как заржавелое копье:
Там, в тростниках, клонясь ко сну,
Воды иль пепла я глотну?
ЧАС ПЕПЛА
Израненный, усталый, слабый,
В час пепла я сижу на пне,
Внимая мудрый голос жабы
И утопаю в тишине.
О нет, меня будить не надо!
Мне с каждым мигом все слышней
Трясины гулкая отрада,
Последний сон последних дней.
ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
С теплом давно пора проститься,
Плащ осени то бур, то ал;
Ветрами воет смерть, как псица,
День равноденствия настал.
Повсюду - лишь печаль и злоба,
Дряхлеет плоть, душа болит.
И осень, словно доску гроба,
Туманами страну скоблит.
В СТРАНЕ БЕСЦЕЛЬЯ
В стране бесцелья, где мысль плетется
Вкруг времени, то есть - вокруг колодца,
Я питье подносил, подчиняясь закону,
Порой - когорте, порой - легиону.
И гунна, с коня безжалостно скинув,
Я пить принуждал из тех же кувшинов,
В той стране, где не знали о времени люди,
Пусть каплю его, но сберег я в сосуде.
ДАКСКИЙ КУВШИН
Обернись, коричневая глина,
Круглым телом дакского кувшина,
На гончарном круге зреет чудо:
В грубой персти - контуры сосуда.
Жизнь и гибель в полость входят ныне:
Гибнет мир, - жалеть ли о кувшине?
Но хранит он, звонкий и нетленный,
Тяготу и пустоту вселенной,
И в его глубины время вложит
Все, что было, - все, что быть - не может.
ЧЕРНАЯ ЦЕРКОВЬ
Мастерку жестокому в угоду,
Колокольня рвется к небосводу.
Стрельчатые своды облегли
Шпиль ее подобием петли,
Ряд столпов, столетьям непокорный,
Ввысь уносит кровлю Церкви Черной.
Гром органа - и приемлет тьма
Вечный свет единого псалма,
Глыба камня, грешная, благая,
Дремлет, край родной оберегая.
ДРЕВНИЕ МОНЕТЫ
Горсть позеленевших медяков,
Ты хранишь в себе следы веков:
Лики Августов и Птоломеев,
Идолов, пророков и злодеев,
И сверкает в неизменном свете
Все, что начеканил царь столетий.
Фениксы пылают на кострах,
Но по краю - прозелень и прах,
Ценности, упавшие в цене:
Ярь-медянке не лежать в казне.
ЧЕРНОМОРСКИЕ РАКУШКИ
Данники зноя и стужи,
Влажные монастыри;
Известь коростой - снаружи,
Ветер и небо - внутри.
Детища влаги бездонной,
Гневом Нептуна больны,
Согнуты в рог для тритона,
В серп восходящей луны.
Слух истомленной Вселенной
Ваши изгибы хранят;
Белый Спаситель на пенной
Влаге - взнесен и распят.
Синего, древнего дома
Не позабыть никогда.
Нежно прибоем несома,
К берегу рвется звезда.
РУКИ ДЮРЕРА
Навек разъединились руки,
Любовь пришла, любовь ушла,
Остался пепел от разлуки,
Но песней ожила зола.
В наигорчайшей из агоний
Сердца уходят в забытье,
Лишь Дюрер вновь сведет ладони,
Благословить чело твое.
РОДНИК ЛУНЫ
В реки, в пруды
Лейся, пьяня:
Кладезь воды;
Кладезь огня.
В море и в лес
С черного дна
Втуне с небес
Льешься, луна.
Минул закат
Каплями рос
Звезды летят
Каплями слез.
Тягость беды
Останови
Клятвой воды,
Клятвой любви. ИЗ ПОЭТОВ ШВЕЦИИ
ЭВЕРТ ТОБ
(1890 - 1976)
ВСТРЕЧА В МУССОНЕ
Мы шла в муссоне вдоль Сомали,
при полном фрахте, натяжеле,
и бриг "Тайфун" увидали вдали:
он шел из Ост-Индии к Капской земле.
С желтым крестом лазурный стяг
мы немедля вскинули над собой;
выбросил, нам отвечая, чужак
финский: на белом - крест голубой.
Мы пары спустили, чужак - паруса,
как можно ближе сошлись корабли:
почту возьмем, постоим полчаса,
мы в шлюпке на веслах к финнам пошли.
Мы подплыли; финны бросили трос,
наш помощник четвертый отправился к ним.
Вижу: на руслени - шведский матрос,
Фритьоф Андерссон - сколько лет, сколько зим!
Плаваешь - то муссон, то пассат,
чаще тропики видишь, чем берег родной.
Я удивлен и, конечно, рад,
что старый приятель передо мной.
- Я в Шанхае влип, я сидел без гроша,
я заложником выкупа ждал много дней,
но дочь у хунхуза была хороша,
и, - сказал Фритьоф, - я женился на ней.
Она в Сингапур мне сбежать помогла,
я без паспорта вышел на рыночный торг,
вдруг подходит ко мне - ну и дела!
шведский консул, Фредрик Адельборг!
"Старина Фритьоф Андерссон, привет,
ты зачем в Сингапуре?" - спросил Адельборг.
"Я с Желтой реки, - отвечаю, - нет
ни гроша у меня, хочу в Гетеборг!"
Ну, одели меня - не прошло и дня,
справили паспорт, дали взаймы,
жена Адельборга поила меня
чаем - и славно болтали мы!
Тут палубным взяли меня как раз,
было с фрахтом в Сиаме немало возни:
львы, тигры, слоны - Гагенбеков заказ,
в Гамбурге будешь, к нему загляни.
Только в рейсе вовсе пришлось тяжело:
южней Цейлона мы влипли в циклон,
клетки звериные поразнесло,
шторм, представляешь, а на палубе слон!
Смешались волны, звери и мы,
капитанскую рубку смыло к чертям,
слон поспихивал буйволов с кормы,
мачты порушил - амба снастям!
Гагенбековских служащих съели львы,
шимпанзе механику вышиб мозги,
и пока я не снес ему головы,
мерзавец все дергал за рычаги.
Не обезьяна, а бог судьбы!
Ну, в живых остались лишь я да слон.
Не видать Малабара бы нам, если бы
не подул юго-западный муссон.
Ну, прощаться пора - выбирают трос.
- Слон-то, приятель, достался кому?
- Видишь ли, это - особый вопрос,
встретимся снова, вернемся к нему.
Паруса обрасопив, они пошли,
поди-ка, успей про все расспроси!
Лишь песня в муссоне летела вдали:
- Rolling home, rolling home, across the sea!
Расстаемся, но я сосчитал сперва
паруса: вот бом-кливер, вот контр-бизань,
круглым счетом их было двадцать два,
а кругом - синева, куда ни глянь.
БАЛЛАДА О ГУСТАВЕ БЛУМЕ
ИЗ БУРОСА
Наш "Горный скиталец" стоял в тот раз
в Сан-Педро, газолином грузили нас.
Там встретился в доках я с моряком
он с братом моим был во Фриско знаком.
В жизни немало подобных встреч.
Густав Блум его звали - о нем и речь.
Он был из Буроса; я пронес
с корабля контрабандою кальвадос.
Обошлось в таможне без передряг,
мы оставили порт и зашли в кабак
Блуму был известен любой притон,
в Голливуд попадешь иль в Уилмингтон.
"Я матросом был в девяностом году,
нашу "Клару" чуть не затерло во льду,
был капитан далеко не трус,
но погиб и он, и помощник, и груз.
Я на шканцах старшим остался с тех пор,
пошли мы по компасу на Лабрадор,
в Нью-Йорке меня отпустил судья,
пошел в Австралию боцманом я.
А там - золотой лихорадки разгар.
Я решил: попробую снять навар.
В Нарроумайне я рылся в песке,
вернулся в Мельбурн - миллион в кошельке.
Ловлей жемчуга стал я пытать судьбу
и вылетел с делом этим в трубу,
в Квинсленде женщину я повстречал
на полмиллиона карман полегчал.
Я завяз у фиджийки этой в сети,