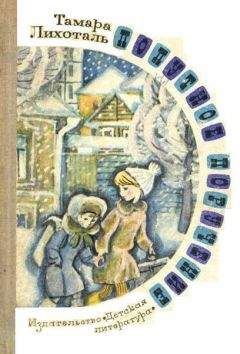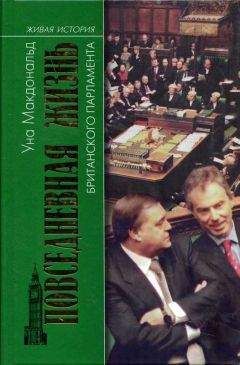Вопрос о том, каким европейским примерам надлежало следовать России, а она, неразумная, не следовала, очень интересен. Все тот же Пайпс (и, разумеется, не он один) дает понять, что Россия, вместо этого, следовала восточным образцам, поскольку торговала больше с Востоком, чем с Западом (доказательства и расчеты не приводятся), вот и набралась азиатчины (политкорректный Е.Т. Гайдар употребляет другой термин — «татарщина»). Возможно, вплоть до середины ушедшего века еще было допустимо считать подобные объяснения достаточными (да и то лишь на самом глухом Западе), но с тех пор многое переменилось. Если Маркс бесхитростно ставил знак равенства между азиатским и плохим76, то сегодняшнего автора непременно спросят, что он имеет в виду. Историки во всем мире давно перешагнули и забыли невежественное марксово положение об «азиатском способе производства».
Взгляд на «Восток» как на нечто единообразно-деспотическое давно уже неприличен. Можно ли одной краской «деспотизма» мазать Китай, Индию, Японию, персов, арабов? А как быть с военно-феодальными демократиями, общинными демократиями кочевников, выборными организациями жителей орошаемых земель? Выше уже говорилось, что если бы княжества Руси действительно восприняли золотоордынские традиции, мы были бы вправе искать в русской политической практике после XIII века следы влияния Великой Ясы, весьма толерантного свода законов Чингиз-хана. Хорошо ли, плохо ли, но таковых не обнаруживается.
Разве в Европе параллельно с парламентаризмом не развивалось и не совершенствовалось абсолютистское полицейское государство? И коль скоро мы не ставим под сомнение европейские влияния на Россию, то вправе ли мы не замечать воздействие абсолютистских примеров? Ведь Петр I был младшим современником Людовика XIV.
Задним числом легко говорить: последователям Петра следовало из всех европейских примеров взять за образец для подражания Англию. Но разве не естественно, что, скажем, Екатерине II была ближе Пруссия, были ближе абсолютистские княжества ее родной Германии?
Кстати, каковы были порядки в Пруссии при современнике Екатерины, Фридрихе II, «короле-философе»? Тяготы крепостничества только усиливались, барщина становилась все тяжелее77. Часть беднейших крестьян переведена на положение дворовых, они полностью отдают свой труд помещику за предоставление скудной месячины (т.е. еды и, при необходимости, одежды). Сгон крестьян с земли принимает все более широкие размеры. Вводится крайне придирчивая паспортная система, фактически запрещен выезд прусских подданных за границу, мелочная опека государства, которой они подвергаются, переходит всякую меру. Цензура свирепа. В мануфактурах практикуется принудительный труд бродяг, нищих и преступников, зато применение машин Фридрих запрещал. Однако люди XVIII века находили все это нормальным, а Фридриха ласково называли Великим.
Почему так уж ярок должен был быть для России пример парламентской Англии? Надо было обладать необыкновенным политическим чутьем, чтобы уже тогда разглядеть потенциал этой модели. Да и сама Англия, чья доля в мировом промышленном производстве составляла в 1750 году всего 1,9% (для сравнения: доля России равнялась 5%, Франции — 4%, германских государств в сумме — 2,9%, Австрии — 2,9%, английских колоний в Северной Америке, т.е. будущих США — 0,1%)78, олицетворяла ли она тогда сколько-нибудь серьезный экономический, военный или социальный успех, который заставлял бы как-то особо пристально к ней присматриваться?
Английский парламентаризм — превосходное изобретение, но его достоинства стали привлекать серьезный интерес, а не просто любопытство, внешнего мира лишь в следующем, XIX веке, а бесспорными признаны едва ли не на пороге Первой мировой войны. Кто мог их провидеть за сто или двести лет? А за триста? Что могло в 1610 году послужить образцом для Михаила Салтыкова и Боярской Думы? Менее всего английская модель. В это время на английском престоле сидел Яков I, беспощадный гонитель пуритан, который произвольно вводил налоги и принудительные займы, раздавал монопольные патенты, по семь лет не созывал парламент и даже сочинил небольшой трактат о том, что парламент вообще не нужен. Речь об этом у нас уже шла выше.
Салтыков видел более убедительные образцы. Посол в Польше в 1601-02 гг, он имел перед глазами пример польской «Посольской избы» — палаты депутатов, не давшей возникнуть в Польше абсолютизму79. Боюсь, правда, это не совсем то «западное влияние», которое обычно имеют в виду. Добрый пример Салтыков мог найти в устройстве чешского сейма, отлично уравновешивавшего интересы городов, панства и витязей (рыцарства) и успешно противостоявшего (опять-таки) абсолютизму — сейм не раз окорачивал произвол Габсбургов. Увы, в 1620 году чешские сословия были разбиты при Белой Горе баварцами, которые поработили Чехию, прервав, быть может, самый удачно развивавшийся парламентаризм своего времени. Хорошее «западное влияние», правда?
Год смерти Салтыкова неизвестен, так что, возможно, он дожил до разгона английского парламента в 1629 году. Современникам этот разгон представлялся окончательным.
Представлять «Запад» как нечто цельное, непротиворечивое и всегда устремленное к совершенству — детская наивность. Разве политическая традиция Европы не ведала склонности к неприкрытой тирании? Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas (так хочу, так велю, вместо доводов — моя воля) — этот принцип пришел не из Персии, не из Аравии, не из Китая. Разве Римская церковь не выказала самый жестковыйный ригоризм, провозгласив принцип (обошедшийся в миллионы жизней): «Римская церковь никогда не ошибалась, она, согласно свидетельству Писания, вечно будет непогрешимой»?
Качество жизни — составная часть свободы
Европа подарила человечеству целый ряд мыслителей, напористо внушавших — и многим внушивших, — что только те страны, откуда они родом («передовые», «прогрессивные»), развиваются правильным образом и должны ставиться в пример прочим — «отсталым» и (или) «реакционным». Пример, видимо, недостижимый, поскольку отсталые нации прожили Средние века и Новое время не должным образом, и потому отстали навек.
Эти донаучные представления дожили до наших дней. Их отголоском является, например, призыв к «возвращению России на большак мировой цивилизации». Нет такого большака. Даже школьникам уже как-то неловко объяснять, что у каждой страны свой «большак» — если уж мы допускаем метафору пути (хотя она еще мало кого не сбила с толку).
Западная модель развития (допустим, что несмотря на разнообразие исторических судеб отдельно взятых западноевропейских стран, ее усредненный алгоритм поддается вычислению) подготовила переход к эффективной демократии, либеральной экономике, «гражданскому обществу», соблюдению основных прав и свобод. Но этот переход произошел, по большому счету, только за ХХ век, после череды мучительных, невыносимых (хотя и успешно идеализированных) столетий.
Если подразумеваемая цель общественного развития всякой страны состоит в том, чтобы в ее населении на каждый данный исторический момент была как можно выше доля людей, имеющих удовлетворительные для своего времени жизненные стандарты (не будем говорить «счастливых»), можно ли признать путь Запада блистательным? Увы, никак нельзя.
Опрос былых поколений произвести невозможно, но есть интегральный способ судить о «качестве жизни» народа на протяжении истории — не высших слоев, а именно народа. Это данные демографической статистики. Возьмем три века, предшествовавших Промышленной революции, время, когда крестьяне во всех без исключения странах составляли подавляющее большинство, «планирование семьи» было неведомо, женщины рожали столько детей, сколько Бог пошлет, а ограничителями роста населения были болезни и моровые язвы, младенческая смертность, голод, войны, непосильный труд, винопитие, неразвитая гигиена, стрессы, общая тяжесть жизни. Если сегодня высокий прирост населения отличает самые неблагополучные страны, тогда все обстояло наоборот.
Дожившие до работоспособности дети были единственным видом социальной защиты родителей и младших членов семьи. Чем благополучнее была жизнь в той или иной стране, тем больше детей в ней доживали до брачного возраста и тем выше был прирост населения. Тем более интересную картину приоткрывают цифры. А именно, что между 1500 и 1796 годами число только великороссов выросло в 4 раза (с 5 до 20 млн), тогда как французов — лишь на 80% (с 15,5 до 28 млн), а итальянцев — на 64% (с 11 до 17 млн)80. Вот и делайте выводы.
То есть, совершенно очевидно, что при всех возможных (и законных) оговорках, качество жизни простых людей Руси-России, по крайней мере до Промышленной революции, было выше, чем в странах Запада. Больше было и возможностей вырваться, пусть и с опасностью для себя, из тисков социального контроля. Наличие такого рода отдушин обусловило постепенное заселение «украинных» земель вокруг ядра Русского государства. А вот, например, для английского народа, доведенного до крайности «огораживаниями» и «кровавыми законами», подобная возможность впервые открылась лишь в XVII веке, с началом заселения колоний.