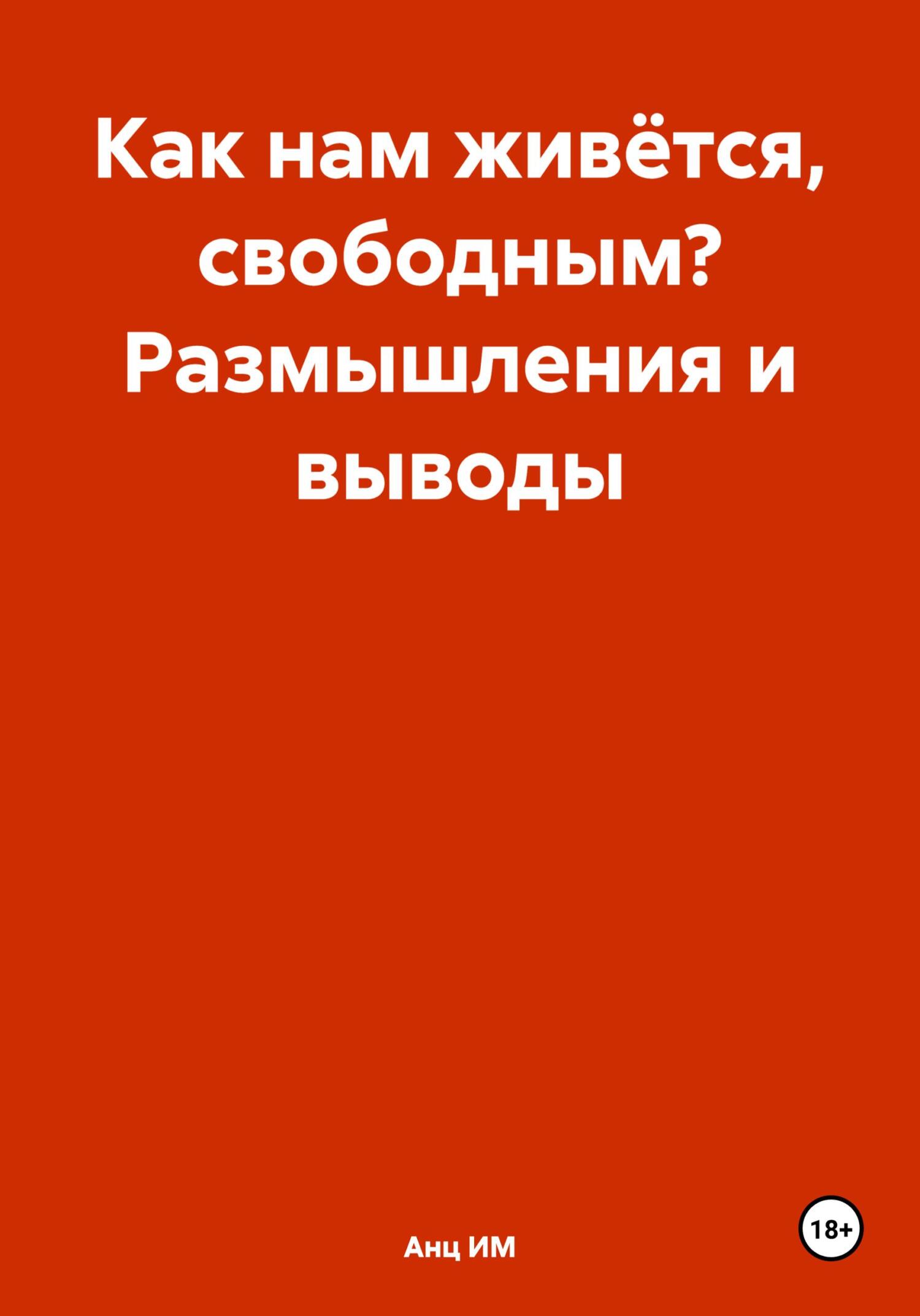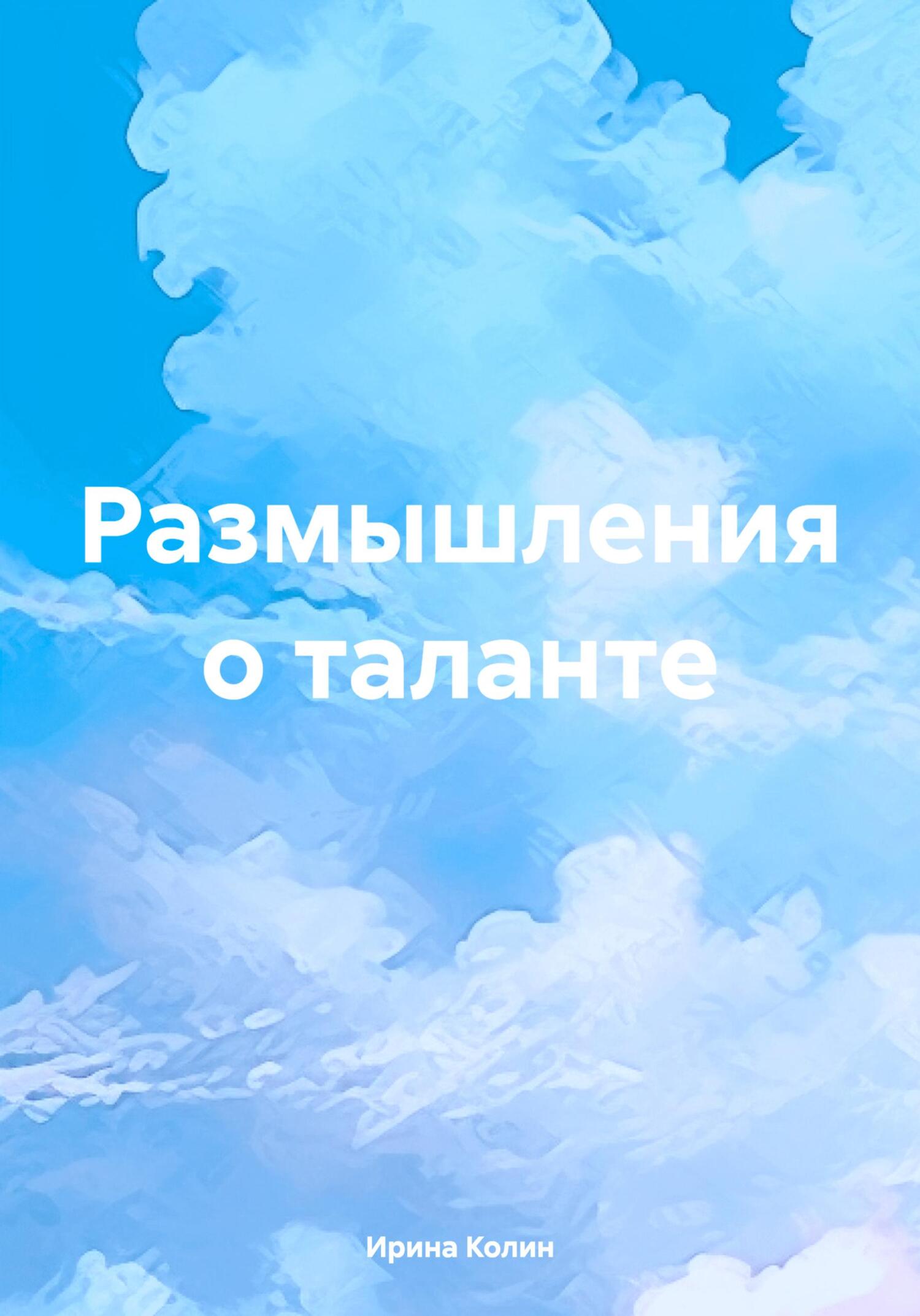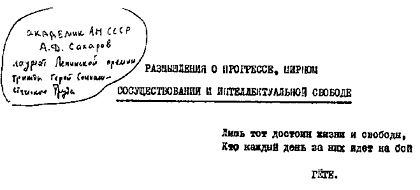это приходится их понимать сегодня, исходя из конкретных реалий, явно — из отчаяния и в пику здравому смыслу, когда демонстрируется злая воля следовать принципу уже закрайней либерализации, того «освобождения» «до конца», о котором мы имели возможность порассуждать в подробностях, на самом же деле — уходя в чёрный, глухой абсурд.
Именно к такому результату пришли в США, где вступил в силу закон об однополых браках, а ещё: под знаком свободы давно проводятся уличные демонстрации, шествия и пикеты геев и лесбиянок и не прекращается возня с искусственным изменением мужского и женского полов в подрастающих молодых поколениях.
Подобных решений проблем, возникающих вокруг свобод «не того» интима, уже достаточно и в других странах так называемой западной демократии.
Надо ли говорить, что вольница на этом житейском поле стала там частью общего процесса «освобождения» со знаком «минус», в том числе «освобождения» в области публичного, государственного права.
Он, этот «минусовый» процесс, неизбежно должен иметь своим логическим продолжением и завершением полное, тотальное деградирование общественной жизни, быстрое усыхание блеклых принципов собственного превосходства (запада) над «остальным» миром, вызывающего отторжения от него.
Прибегая временами к насилию над законами, данными от природы, люди, что называется, подрубают дерево, на ветвях которого очутились. Как мы видели, во многом от этого зависело качество идеалов, вызревавших в лоне естественного права.
Они получались оторванными от свободы, как и она от них, и, само собой, неотчётливыми выходили также понятия чистой любви, человеческого достоинства, чести, долга.
Укрощение «не того» интима с применением закона должно сводиться, очевидно, к тому, что в некоторых случаях сообщества, подчиняясь необходимости, прямо-таки обязаны вводить соответствующие регуляторы. Но даже самые строгие из них не могли бы обеспечить желаемого эффекта, на что указывает ситуация с тем же инцестом. Из массового распространения он вроде бы изъят, но окончательно не побеждён и будет ли побеждён когда-нибудь, никто не знает. По крайней мере, это пока «предмет», ярко подтверждающий необоримую силу свободы в интиме, чего не мог бы отрицать любой, даже не будучи правозащитником.
Строгости на будущее понадобятся, видимо, по отношению к проституции, педофилии и другим «уклонам» и извращениям, проблемы с которыми резко обострены в связи с провозглашением более широких прав и свобод — политических и гражданственных. Ясно, что, как и всегда раньше, «подрезание» такого интима и на этот раз не может не сопровождаться ломкой неотторгаемых прав и ущемлением свободы человеческой личности.
С учётом развития демократий каждый шаг в этом направлении наверняка пришлось бы делать с изрядной долей смущения, стыда и осмотрительности, ожидая, что где-нибудь его могут использовать как повод к разогреванию каких угодно политических возмущений, требований, интриг.
Можно не ошибиться: неприятные и даже слишком горестные последствия такой острой реакции на введение мер насилия гарантированы — как для отдельных государств, так и для всего человеческого сообщества.
Именно поэтому не убывает необходимости в постоянных исследованиях проблем и темы любви в отношениях между людьми.
Добрые услуги в этом направлении смогли оказать вовсе не научная психология и венерология, быстрое развитие которых наблюдалось лишь в самые последние столетия, а — художественная литература, где издревле интим избирался как важнейшее средство постижения чувственности в человеке.
Не где-то в других сферах, а именно здесь, в искусстве слова, необъятная стихия любовных отношений всегда отображалась в её целостном понимании, когда имели её в виду и как нечто лучшее в индивидууме и в человечестве, так и в вариантах, во многом вызывавших сомнения, — в виде «не того» интима.
Попыток отличиться в освещении темы нельзя уложить в какие-то цифры. Как уже отмечалось выше, это было связано с неподдельным, общим для всех интересом к задачам репродукции человечества как вида.
Да, в работе над образами никто из литераторов не претендовал на открытия по части физиологии и других аспектов нашего бытия; но в совокупности художественное творчество шло всё же и в русле решения самых разных исследовательских задач. Нередко это могло обнаруживаться уже при выборе сочинителями героев и сюжеталий для отдельных своих произведений.
Пушкинская поэма «Анджело» — одно из них. В нём любовь, как чувство естественное и свободное, не подлежащее управлению государственным, то есть публичным правом, брошена именно под это строгое покрывало, вследствие чего ей отведена роль уже некоей разменной монеты при категориях морали и нравственности.
Властитель, наделённый одновременно и статусом судьи, установивший за прелюбодейство исключительное наказание — смертную казнь, сам влюблён и превращается в соблазнителя, подпадая под нож своего же, будто бы справедливого предписания. Вокруг этого драматичного обстоятельства в поэме уясняется «истинное» понимание любви и супружеского долга.
Какими им быть? Какое место в них должно быть отведено измене? Как воспринимать «любвеобилие» — со стороны как мужчины, так и женщины? И какова здесь на самом деле роль закона, права государственного, публичного, а также и права естественного — в его двух ипостасях: как общего для всех и каждого и — корпоративного (если без него — не обходятся)?
Морализаторский и довольно острый этот «ход» когда-то разрабатывал и Шекспир — в комедии «Мера за меру», а ещё раньше такая же коллизия раскрывалась в одной из новелл малоизвестным итальянским сочинителем.
Не отрицая старательности и талантливости этих авторов, заметим, что ни у одного из них движение страстей не получало яркого и достаточно обоснованного выражения. Страстям хоть и находилось место, однако едва ли не сразу они тускнели и теряли значимость под влиянием странноватого поворота в истолковании пружин повествования.
Из-за чего сочинителям понадобилось заострять внимание читающей и театральной публики на соотношении любви и закона? Не вполне убедительный ответ на этот вопрос дают они сами, заканчивая повествования тем, что от лица новой, великодушной власти уличённый прелюбодей судья вдруг получает спасительное для него прощение. В таком happy end очевидна некая искусственная его заданность или даже надуманность.
Ведь проблема, как и её разрешение, понятна сама по себе; она, как увязанная с общей этикой, с действующим повсюду обычаем, не очень-то и нуждается в сопоставлениях. Хотя есть интрига, читатель или театральный зритель уже «издалека» догадываются, что им преподносится как бы маловероятное, только в виде ребуса, «в потеху», окончание же напрашивается одно-единственное — тот самый happy end. Усилия литераторов, стало быть, затрачены едва ли не впустую.
Подступаясь к сюжету, сочинители явно пренебрегали всеобщим пониманием установившихся отношений между полами в людских сообществах — как системой или сферой особой чувственности и достоинства. Соответственно в стороне было оставлено главное. А оно состояло в том, что пытаться отрегулировать законом чувственное невозможно ни по каким