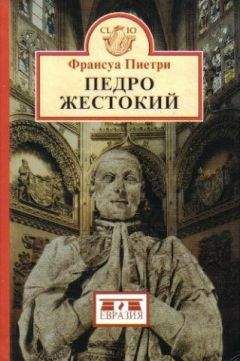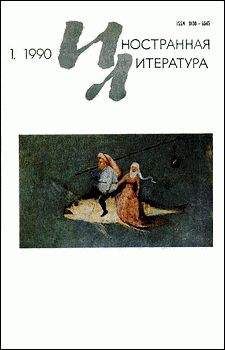Не знаю, каков был Мальро в тесном общении, но в том, что масштаб личности не уступал дарованию, не сомневаюсь ни секунды. Когда я думаю о нем, то вижу его в кабине истребителя, в небе сражающейся Испании.
В Центральном комитете идет беседа с Фиделем. Помимо Зелии, присутствует Хорхе Боланьос, заместитель министра иностранных дел, которого вскоре назначат послом в Бразилию. Наш тогдашний президент Жозе Сарней собирается восстановить дипломатические отношения с островом барбудос, прерванные после военного переворота 1964 года.
Мы говорим о том, что объединяет Бразилию и Кубу, а объединяет многое, но даже самые разные страны могут найти общий язык, если есть взаимное уважение. А нам сам Бог велел дружить, ладить, торговать. Надо нагонять упущенное время — те десятилетия, в течение которых мы, бразильцы, жили по принципу: что хорошо для Соединенных Штатов, то хорошо для Бразилии, а кубинцы пытались экспортировать революцию.
За несколько дней до этой встречи я слушал длинную — можно подумать, у него бывают короткие — речь Фиделя на торжественном открытии Института латиноамериканского кино, во главе которого стоит Габриэль Гарсия Маркес. Фидель назвал себя человеком, склонным к размышлениям и сомнениям. Раньше, впрочем, за ним такого не замечалось, но я поверил, что сейчас он говорит правду, — прежде чем совершить поступок и начать действовать, он думает. Как иначе объяснить его шаги, направленные на улучшение отношений с Ватиканом и со священниками — в первую очередь, конечно, с приверженцами «теологии освобождения». И я, памятуя об этом новообретенном свойстве кубинского лидера, подбрасываю ему пищу для размышлений — говорю о том, что представляется мне самым важным для нашей дружбы. Мы с кубинцами — двоюродные братья. У нас больше оснований понимать друг друга и быть друг с другом заодно, чем у любых других латиноамериканцев, ибо мы и кубинцы — плод смешения одних и тех же рас. Больше таких на нашем континенте нет. Повторяю и подчеркиваю: мы — африканцы по происхождению и по вере, по обычаям и по культуре, разве не так, команданте? И до сих пор на эту нашу особенность никто почему-то не обращал внимания, не придавал этому обстоятельству должного значения — ни на Кубе, ни в документах, речах, инициативах бразильских «левых», словно бы это родство по африканской крови не объединяет нас и в то же время не выделяет из остальных «латиносов».
Да, говорю я Фиделю, мы с вами замешаны из одного теста, и наш культурный синкретизм берет начало из одних и тех же источников. Я предлагаю ему предпринять кое-какие усилия для того, чтобы лучше узнать и приблизить друг к другу «негритянские ценности» двух наших культур — кубинской и бразильской. Я рад тому, что на Кубе уже существует наша религиозная миссия, наших падре больше не преследуют здесь как контрреволюционеров, а Зелия вместе с Джули и Гарри Белафонте побывала вчера на радении, которое у нас в Баии именуется кандомбле, а здесь — сантерия. Отчего бы не наладить взаимообмен между двумя этими ветвями афробразильского культа, тем более что обе они — йорубского происхождения, и богов-ориша Баии не отличить от их собратьев, обитающих в Сантьяго-де-Куба. Если доступ на остров открыт католическим священникам, если они служат мессы в кубинских храмах, отчего бы не привезти в Гавану на праздник Шанго наших «дочерей святого» — Стелу де Ошосси, Олгу де Алакету, Креузу де Гантоис?! И отчего бы 2 февраля, когда начнется в Баии праздник Йеманжи, не прислать туда кубинских йалориша? Неужели для барбудос народные верования, приплывшие к нашим берегам в трюмах невольничьих кораблей, значат меньше, чем таинства Церкви Христовой, завезенные к нам каравеллами Колумба?
В Центральном комитете кубинской компартии я напускаю африканских ориша на Фиделя Кастро — он же, по его словам, склонен к размышлениям, вот пусть и подумает. Впрочем, у него и без террейро и макумбы хлопот и проблем невпроворот — в Гаване приезжий сталкивается с ними буквально на каждом шагу.
Жозе Панчетти пребывает в злобе и большой обиде на меня, грозится поссориться со мной на смерть, устроить грандиозный скандал — он обзывает меня неблагодарной тварью и не желает слушать никаких объяснений. Он требует, чтобы я похлопотал перед руководителями нашей компартии и перед советскими товарищами и устроил в Москве выставку его работ. Художник Панчетти полагает, что мой голос имеет какое-то значение — о, горе мне!
Да я мечтал бы, чтобы полотна Панчетти были выставлены не только в Москве, а во всем мире, чтобы творчество наших художников снискало себе международное признание. Да вот беда, творчество это ограничено канонами «Парижской школы», и боюсь, что за исключением Лазаря Сегала, немецкого еврея в той же степени, что и бразильца, нет в нашей отчизне художника, способного заинтересовать европейских критиков и коллекционеров. Речь идет исключительно о живописи и о скульптуре, а не о графике — гравюры нашего земляка Алдемира Мартинса получили Гран-при на Бьеннале в Венеции. Чтобы привлечь к себе внимание мировой общественности, нашим художникам надо создать бразильскую живопись — бразильскую не только по содержанию, но и по форме, придумать свои средства выражения, а не перепевать открытия «Парижской школы», словом, поступить по примеру мексиканцев, которые создали собственное искусство, не следующее за европейской модой. Именно благодаря этому своеобразию так далеко за пределы национальных музеев и галерей вышли работы мексиканцев, завоевав себе мировую славу. Покуда наши художники не поймут этого, на международном рынке котироваться будут лишь наши «naпfs» — они имеют громовой успех на выставках в Европе, о них взахлеб пишут газеты, они покорили Париж.
Что же касается Советского Союза, тут дело осложняется еще и соображениями идеологического характера: все, что не вписывается в рамки академической живописи, товарищ Жданов, которого товарищ Сталин назначил старшим по литературе и искусству, объявил трюкачеством и формализмом, и по этой причине полотна Пикассо, Шагала, Матисса и других гениев современной живописи заперты в запасниках Эрмитажа — посетители их не видят. О том, чтобы выставить в СССР работы Панчетти, нечего даже и думать.
Тебе достаточно сказать два слова Эренбургу, и дело решится! — утверждает он, давая мне недвусмысленно понять, что с моей стороны это самый настоящий саботаж. До «объективных причин» ему дела нет. Я возмущен: по какому праву сомневается он в моей дружбе, проверенной столькими годами? Но я не могу сказать ему всю правду, а она заключается в том, что Илье вряд ли понравится его живопись. А что до советских товарищей, то для них полотна Жозе относятся к числу безусловно осуждаемых режимом и отправляемых в запасники: если не выставляют Пикассо, с какой стати выставлять Панчетти?!
Что же, я не помню разве, как совсем недавно Пабло Неруда, большой патриот и преданный друг своих друзей, хотел было обратиться к Эренбургу с просьбой написать предисловие — ну, хоть несколько фраз — к каталогу Хосе Вентурелли, земляку и протеже. Илья смотрел репродукции и восклицал: чудовищно!.. отвратительно!.. ужасно!.. так что Пабло не решился даже заикнуться о предисловии.
Тот же Эренбург в пору правления Хрущева каким-то чудом добился разрешения устроить выставку Пикассо. Несмотря на всякого рода препоны и помехи — ни в одной газете не было ни словечка о выставке, не вывесили ни единой афиши, а сама выставка состоялась чуть ли не на окраине Москвы, в тесном и неудобном помещении, — успех был грандиозный. Известие перелетало из уст в уста, и хотя вернисаж назначен был на четыре часа, уже к полудню у здания собралась огромная толпа, очень скоро запрудившая всю улицу и грозившая высадить единственную дверь, которая вдруг приоткрылась на четверть, пропуская Илью с историческими словами: вы ждали этого момента тридцать лет, подождите еще полчаса.
Но просьба Панчетти, вернее, требование устроить ему и его картинам приглашение в Москву и мои уклончивые ответы — все это было задолго до воцарения Хрущева. На дворе стояла лютая идеологическая зима. Попробуйте-ка втолковать это упрямому живописцу, желавшему, чтобы его полотна собирали тысячные толпы в Москве, в Ленинграде, в Киеве, в Тбилиси. А раз не выходит — значит, я во всем виноват, я один. Ну, в конце концов он меня допек, и я вспылил, послал его к черту. Мы рассорились.
Читательница из Эворы, учтивая и восторженная, как истая лузитанка, написала мне, желая узнать мое мнение о Фернандо Пессоа112. Все, мол, говорят о Пессоа, о величайшем из великих, и только вашего голоса не слышно в этом хвалебном хоре. Чем объяснить это странное молчание? Пожалуйста, напишите мне, что вы думаете о его поэзии.