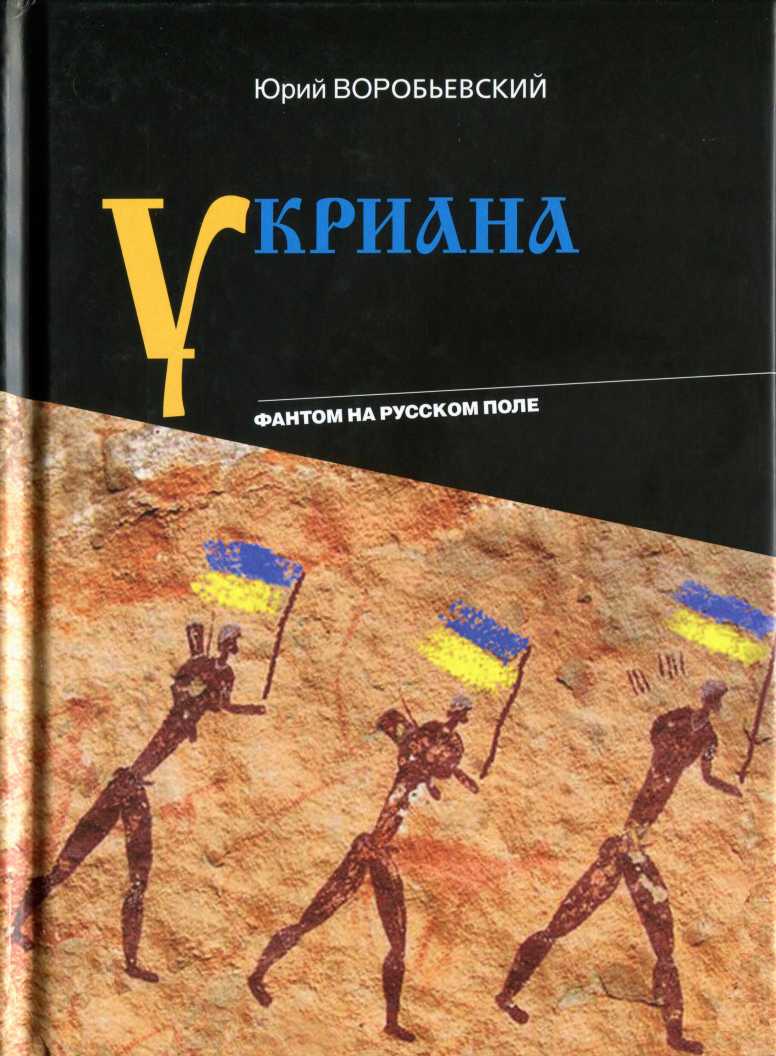с. 142].
Животворящую силу церковнославянского чувствовал Гоголь. Обращаясь к Языкову (поэту, который, как мы помним, и сам по себе дар Божий современному языку), он писал: «В продолжение говения займись чтением церковных книг. Это чтение покажется тебе трудно и утомительно, примись за него, как рыбак, с карандашом в руке, читай скоро и бегло и останавливайся только там, где поразит тебя величавое, нежданное слово или оборот, записывай и отмечай их себе в материал. Клянусь, это будет дверью на ту великую дорогу, на которую ты выдешь! Лира твоя наберется там неслыханных миру звуков и, может быть, тронет те струны, для которых онаданатебе Богом». [58, с. 24].
Слава Богу, молитва на церковно-славянском звучит уже не только в монастырях, но и в столичных квартирах. И она начинает влиять даже на повседневный язык. А значит — на поведение. Когда малышка, выходящая из храма после службы, говорит: «с миром изыдем, но у меня, папа, паки-паки шнурочек развязался», это не только трогательно и забавно, от этого делается — радостно.
Да и взрослый воцерковившийся человек, чьи мысли плавают в евангельских и святоотеческих текстах, начинает менять свой лексикон. Вместо слова «интрижка» он скажет «блуд». Не хихикнет: «прикольно», а строго скажет: кощунственно. Пустое для русского сознания слово «актёр» заменит на выразительное и корневое «лицедей». Такой человек называет вещи своими именами потому, что это церковно-славянский учит его: зри в корень.
А потом, когда корневые слова вновь укоренят его в традиционной христианской нравственности, он и поступит иначе, чем поступил бы прежде. Получая, например, прилог завязать интрижку (слово лёгкое такое, почти шёлковое, какими-то духами пахнет!), он вдруг понимает, чем кончится принятый помысел. Смердящим блудом. Тяжелой тоской и холодной пустотой на сердце.
Бывает, через церковно-славянский язык Господь уже совершенно очевидно помогает. Когда мой сын поступал в престижный гуманитарный вуз, на собеседовании перед ним поставили икону и спросили: кто изображён на ней?. Предполагалось, что молодой человек, конечно же, не может этого знать; требовалось проявление находчивости. Велико же было изумление комиссии, когда юноша ответил: «— Параскева Пятница». Недоуменно поднятые брови:«— Как ты догадался?».«— На ней же написано»…«- Ты знаешь церковно-славянский?!» (Это прозвучало примерно как: ты знаешь санскрит!). Очередной ответ удивил преподавателей ещё больше: «— Когда по утрам и вечерам читаешь молитвы, поневоле начинаешь понимать»…
Впрочем, мы можем сколько угодно рассуждать о пользе церковно-славянского, но лучше посмотрите на такую картину. Вот комната, где постоянно звучит Псалтирь, а вот ветка от соседнего дерева. Она столь явно тянется в это окно, что не понять невозможно: сама жизнь проистекает из этого намоленного пространства. Когда-нибудь, Бог даст, такой станет вся Россия.
Диагноз русскому языку поставлен. Он нуждается в «отчитке» церковно-славянским.
Счастье — русское и нерусское
«Не только мысль каждого народа направляется словом его родного языка, но и образ жизни народа, его видение этого мира и своей роли в нём зависят от слова. Но и, что очень опасно, ослабление народов также возможно через язык, когда человеку навязываются представления и обычаи, образ мысли и видение мира, отличающиеся от тех, что заданы его родным языком…
Психологи говорят, что архетипы мышления — это пра-мысли, пра-образы мыслей. А мысль невозможна без слова, она неразрывна со словом, она облечена в слово. Значит, без языка действие архетипов мышления невозможно. Тогда именно в языке и следует искать формы выражения таких архетипов для защиты от нейролингвистического программирования». [45, с. 9, 11]. Сам язык может и должен спасти от самоубийственных процессов!
Почему число умерших и погибших трудоспособных мужчин, по данным Роскомстата, в четыре раза превышает аналогичный «женский» показатель? Доктор медицинских наук Игорь Гундаров отвечает: «Эпидемия сверхсмертности в России является результатом навязывания исторических и культурно чуждых для нас духовных ценностей. Тип мышления, всячески внедряемый в сознание русского человека, противоречит его нравственно-эмоциональному генотипу, и вымирание нации является специфической реакцией отторжения чужой духовности». [111]
«На Западе «интимизация» культуры, её обращение к индивиду произошло в XVII–XVIII веках. Это отразилось в европейских языках (например, проявилось немыслимое ранее словосочетание «моё тело» — естественная частная собственность индивида). И.С.Кон приводит такие примеры: «Староанглийский язык насчитывал всего тринадцать слов с приставкой self (сам), причем, половина из них обозначала объективные отношения. Количество таких слов (самолюбие, самоуважение, самопознание и т. д.) резко возрастает начиная со второй половины XVI в., после Реформации… В XVIII в. появляется слово «характер», относящееся к человеческой индивидуальности… В том же направлении эволюционизировали и другие языки». [35, с. 330].
Опыт языка гораздо богаче опыта жизни отдельного человека. «Лингвисты, изучающие национальные языковые картины мира, практически всегда сталкиваются с языковой генетической памятью, которая диктует человеку модели поведения, правила отношения к Богу, к жизни, к Родине, к счастью, к богатству. К примеру, счастье осмысливается в исконных значениях языка как своя часть, то есть собственная доля, участь, судьба. И поэтому русское счастье может быть и трудным, и горьким, и со слезами смешанным. А англо-американское счастье — happiness — образовано древним пра-корнем со значением хватать, хапать, хитить. Как видим, у русских и англичан разные представления о счастье в силу разной картины мира, которую диктует язык». [45, с.9].
«В Европе на вопрос как проехать? Вам ответят буквально так: возьмите вон ту дорогу (prenez cette route, take this way) и поезжайте. И этот смысл… торчит там повсюду: вначале нужно схватить и присвоить, а потом уже можно что-то делать». [38-2, с. 52].
Иметь или быть. Отступление.
Западноевропейскую картину мира точно сформулировал Эрих Фромм — в своем труде «Иметь или быть». Да, вопрос стоит именно так: иметь или быть.
«Уже не раз лингвисты обращали внимание на то, что формула владения в русском языке тоже бытийная, и это парадоксальный для других народов, не понятный им наш национальный взгляд на мир. Когда русский человек хочет объяснить чем он владеет, он говорит— «у меня есть», структура языка заставляет его мыслить, что его собственность дана ему свыше, а не завоевана его жадностью и алчностью… Русская грамматическая форма «у меня есть» определяет нашу природную нерасчётливость, наше врождённое воспитание родным языком, нежелание потворствовать даже собственным прихотям». [45, с. 157].
Ключевым для европейских языков является общеиндоевропейский корень, выражающий значение приобретательства — латинское habeo, английское have, немецкое habe, греческое eho. Этот корень организует грамматику прошедшего времени данных языков, он лежит в основе английского слова happiness, он коренится в английском shopping (покупки), составляющем сегодня средоточие жизненных целей человека общества потребления.
В русском языке данный древний