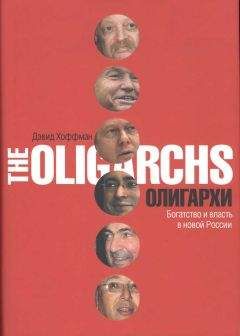Михаил Москвин-Тарханов, депутат городской думы, в начале 1990-х годов входивший в число московских демократов-реформаторов, а позже ставший сторонником Лужкова, сказал, что тот изобрел собственную альтернативу советской административно-командной системе. Москвин-Тарханов охарактеризовал ее как “мягкое администрирование и сильное экономическое регулирование”. “Другими словами, — объяснил он, — у нас есть мягкая система управления, которая позволяет сначала сказать, чего мы хотим, потом предложить сделать это, потом приказать и, наконец, наказать”{273}. Павел Бунич, консультант Лужкова, работавший вместе с ним в советские годы над идеей самофинансирования заводов, не делал секрета из того, что Лужков нашел способ надавить на новых московских предпринимателей. “Лужков знает, как “надавить” на спонсоров, но также знает, как отблагодарить их. Все банкиры и предприниматели знают: утром — деньги, вечером — льготы по арендной плате, муниципальные заказы, кредиты или ссуды”{274}. “У Лужкова имеются определенные рычаги, позволяющие ему отблагодарить спонсоров, — добавил Бунич. — Если вы бизнесмен, то вам, безусловно, лучше иметь офис в центре, недалеко от Кремля. Лужков может это для вас устроить. Лужков может установить размер арендной платы от нуля до бесконечности”{275}.
“Дело не в уникальности Лужкова, — сказал мне однажды либеральный московский политолог Алексей Кара-Мурза, — а в уникальности Москвы для России”. Город стоит на денежных потоках, которых больше нигде в России просто не существует. В 1997 году, через пять лет после того, как Лужков стал мэром, город давал от 25 до 30 процентов налогов, собранных по всей стране, хотя его население составляло всего 6 процентов общего населения. Из двух с половиной тысяч российских банков тысяча семьсот находились в Москве; из двадцати пяти ведущих банков все, кроме одного, находились в столице, и на их долю приходилось 80 процентов вкладов. Восемьдесят процентов телевизионной рекламы создавалось в Москве. Москвичи по сравнению с жителями других городов имели в два раза больше возможностей поехать за границу, более чем в два раза больше возможностей установить телефон, приобрести персональный компьютер, микроволновую печь или кредитную карточку. Москва была цитаделью российского капитала, и приток богатств стал настолько велик, что даже Санкт-Петербург — второй по величине город России — казался по сравнению с ней сонным захолустьем{276}.
Гайдар позже привлек внимание к одному из многих способов, с помощью которых Лужков использовал уникальное положение Москвы. Российские законы требовали, чтобы компании платили налоги там, где они были официально зарегистрированы. Национальные монополии, сети которых покрывали всю страну, были зарегистрированы в Москве. “Ростелеком” ведал телефонной связью всей России, но платил налоги в Москве. Электрическая монополия “Единые энергетические системы” производила электроэнергию и распределяла ее по всей России, но налоги платила в Москве. То же самое можно было сказать и о гигантской газовой монополии “Газпроме”, и о “Татнефти”, компании, занимающейся доставкой нефти по трубопроводам. Обе они охватывали не только территорию России, но и части Европы. Они тоже платили налоги в Москве{277}. “Москва находится рядом с фонтаном, из которого бьет золото”, — говорил Гайдар. Это город, где “денег куры не клюют”{278}.
Когда я спросил об этом Лужкова, он оспорил его заявление, утверждая, что крупные компании приносят не более 12—15 процентов городского бюджета. Лужков сказал, что московское чудо объясняется не статусом столицы, а тем, как он ею управляет. Он относился к унаследованному богатству как прагматичный хозяин. Вовремя платил врачам и учителям, предоставил бесплатный проезд в городском транспорте пенсионерам. “Мы говорим, что построим три миллиона квадратных метров жилой площади, и мы делаем это, — утверждал Лужков. — Мы говорим, что отремонтируем пять миллионов квадратных метров дорожного покрытия, и мы их ремонтируем”. Лучшим подтверждением, вспоминал Лужков, был приток бизнеса в столицу. Если бы он был плохим хозяином, бизнес сбежал бы оттуда{279}.
По субботам, надев свою известную всей стране любимую кожаную кепку, Лужков в сопровождении журналистов, помощников и просителей объезжал строительные площадки города, требуя объяснений, рассматривая чертежи и отчитывая подчиненных. Посещения Лужкова никогда не перерастали в потоки красноречия. Он говорил короткими, отрывистыми предложениями, простыми, как кирпичная кладка, поднимавшаяся вокруг. Лужков не был королем-философом, он говорил на языке строителей, инженеров, химиков. Он думал о постановке и выполнении задач, а если они не выполнялись, он сердился и требовал объяснений. Он больше всех других российских политиков того времени напоминал Роберта Мозеса, мечтателя, занимавшегося благоустройством огромных парковых комплексов, пляжей, строительством жилых домов, мостов, автомагистралей и дорог современного Нью-Йорка. Как Мозес, прогуливавшийся по Центральному парку или Кони-Айленду, Лужков обходил свои владения, думая о выполнении больших и малых общественных работ. Его интересовало всё — от строительства самого большого в Европе крытого стадиона до мельчайших подробностей меню московского фастфуда.
В те годы население Москвы составляло 8,6 миллиона человек, хотя, по некоторым подсчетам, в Москве постоянно находилось еще более миллиона приезжих и людей, проживавших в ней неофициально. Городу, занимавшему территорию более 1091 квадратного километра, старая и изношенная инфраструктура доставляла бесконечные проблемы. Самые драматические ситуации возникали холодной зимой, когда прорывались проложенные под землей трубы, по которым горячая вода подавалась для обогрева жилых домов. Вода вымывала огромные пустоты, в которые проваливались машины и люди. Город страдал от многолетней запущенности: дороги с огромными выбоинами, выщербленные и скользкие лестницы, светофоры, сигналы которых невозможно разглядеть, деревья, гибнущие от загрязнения воздуха, улицы, задыхающиеся от пробок, вечно темные и вонючие подъезды жилых домов.
Но при Лужкове город стал более чистым и пригодным для жизни, чем когда-либо раньше. Лужков вводил в строй новые станции метро, асфальтировал изрытые дороги, открывал рынки, устраивал детские площадки, строил фонтаны и, самое главное, сделал менее острой проблему жилья. Ежегодно он строил новые квартиры общей площадью от 3 до 3,4 миллиона квадратных метров. Он продавал квартиры богатым, а на доходы строил новое жилье для десятков тысяч семей, годами стоящих в очереди на получение муниципальной квартиры. Нужно отдать ему должное — когда в городе происходило что-то чрезвычайное, рушился мост или случалось другое бедствие, появлялся Лужков и брал руководство на себя.
Но наступил момент, когда Лужкову этого оказалось мало. Владимир Евтушенков, в прошлом специалист по пластмассам, близкий друг Лужкова, ставший одним из самых богатых людей в России, сказал мне, что Лужков мечтал заняться чем-то более творческим, чем строительство жилья и мощение дорог. “Он хотел заняться чем-то более масштабным”, — рассказывал Евтушенков{280}. Жена Лужкова, Елена Батурина, вспоминала, что он считал строительство идеологией, маяком, способным вдохновить людей, не дать им утратить веру. Лужков “понимал самое важное, — рассказывала она. — Что в такое трудное время было важно найти идею, способную объединить людей. В Москве строительство стало идеей, объединявшей москвичей”{281}. Однажды, в день рождения Лужкова, его жена, думая о том, что ему подарить, заметила экскаватор, стоявший на обочине дороги. Наполнив ковш экскаватора розами, она доставила их Лужкову. Идеальный подарок для Строителя{282}.
Когда после долгого ожидания я брал интервью у Лужкова, я захотел узнать, о чем он мечтает, что вдохновляет его как строителя. Я давно решил для себя, что честолюбивые замыслы Лужкова связаны со строительством: новые городские площади, парки и шоссе, новые высотные жилые дома, ставшие его фирменным знаком. Но ответ оказался более реалистичным, чем я предполагал. Лужков сказал мне, что его истинная “идеология” заключается не столько в строительстве ради строительства, сколько в том, чтобы сделать город более пригодным для жизни. Это была более приземленная, популистская позиция, не такая возвышенная, какой она представлялась мне. “В 1995 году я не мог говорить об этом, потому что жизнь в Москве была отвратительной, — сказал он. — Москва была такой грязной, что если бы я заговорил о комфортной жизни, мне бы сказали, что я ненормальный, что я сошел с ума. Теперь я говорю об этом безбоязненно, открыто и часто; мы сделали свой город более комфортным”. Лужков вкладывал в слово “комфорт” широкий смысл, подразумевая и такое “духовное” сооружение, как храм, и более практичные вещи, например МКАД{283}.