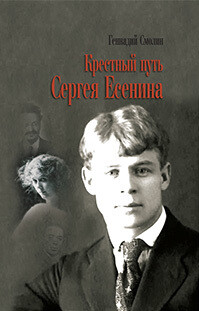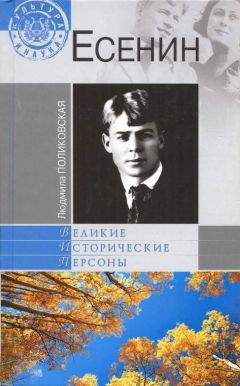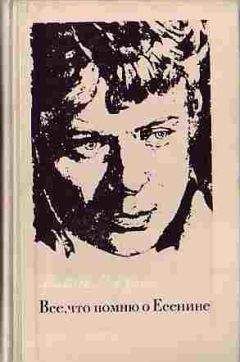– Да, конечно, – продолжал он, как бы читая мои мысли, – она принесла мне и кое-какую пользу, собственно, не она, а её Вардин. Она-то тут не при чем. Она только кружила меня и путала. А Вардин принес пользу, но он дурак, кацо, набитый дурак, скучный, и мне дольше нечего было с ним делить. Ведь ты понимаешь, он бегал, как обезьяна, за юбкой этой Абрамовны, пока она… – но только дай мне слово, что никому об этом не скажешь. Даёшь слово? Дурак В. попал. Она заразила его триппером, которым её заразил Элиава.
И он снова сочно и цинично выругался по её адресу. Я налил стаканы пивом, и мы выпили.
От холодного пива, мрачного подвала и струившейся с улицы изморози по спине продернула дрожь.
– Скучно, кацо, – сказал он уныло, и его глаза лениво потускнели, а рот безвольно застыл.
– Скучно? – ухмыльнулся я. – А как же искусство? Значит, и оно тебя не удовлетворяет?
– Нет! – рванулся он и мотнул своей прозрачной шеей, как индюшонок. – Не-ет! – прохрипел он с какою-то вымученной злобой. – Не-е-ет. Я работаю и буду работать, и у меня ещё хватит сил показать себя. Я много пишу и еще много надо писать. Да, надо много писать, и я умею писать. Я не выдохся. Я ещё постою. И это зря орёт всякая бездарная шваль, что Есенин – с кулацкими настроениями, что Есенин чуть ли не эмигрант. Это я-то эмигрант, кацо, который швырнул в рожу всем этим белогвардейцам:
Они, как отрубь в решете,
Средь непонятных им событий…
Кто бросит камень в этот пруд?..
Они в самих себе умрут,
Истлеют падью листопада.
– Должно быть, меня считают за пустого дурака, который не осознаёт своего таланта и не понимает, что только благодаря Советской власти он расцвёл. Я за Советскую власть, без Советов я ничего. Ну, скажи на милость, что бы представлял я из себя, если бы не случилось Октябрьской революции? Поэта б…й и сутенёров, бардачного подпевалу? Не усмехайся, кацо, я знаю, что ты думаешь. Но чем же я виноват, что живу в какой-то перепалке? Эх, если бы мне немножко попозже родиться б.
– Серёжка, не тужи этим вопросом. Неужели в тебе нет волевого упрямства осознать всё по-новому и дать новые по своему содержанию песни. Как это ни трудно, но ведь ты же – Есенин!
– Ах, кацо! ты не понимаешь!.. Должно быть, я опоздал родиться. Но только… Только иногда бывает, ты понимаешь, – и он болезненно скривился, – когда нет настроения писать. Напишешь четыре строчки, и вдруг остановишься… Я устал… я сильно устал, – сознался он каким-то упавшим и задушевным голосом. – Я сильно устал. Кругом – одна сволочь. Ты понимаешь – одна сволочь. Вот ты знаешь, друг, ведь у меня никого нет близких. Ты скажешь: сестра Катька. К чёрту! Ты слышишь: к чёрту! Плевать я хочу на эту дрянь! Сквалыга, каких свет не рожал. Вышла, понимаешь, сейчас замуж за какого-то там поэтика Наседкина и приходит ко мне, так и так де, мы-ста, да ты-ста. А я говорю: к черту! Знать тебя не знаю и никаких Наседкиных знать не хочу. Пусть сам пробивает себе дорогу, если поэт, а если дребедень, я ему своим горбом проколачивать дороги не буду. Я прогнал её с глаз долой и больше и знать о ней не хочу. Такая же она, как и все остальные, такая же, как и мать с отцом. Ты думаешь, они меня любят? Они меня понимают? Ценят мои стихи? О да, они ценят, и жадно ценят, почем мне платят за строчку. Я для них неожиданная радость: дойная коровёнка, которая и себя сама кормит, и ухода не требует, и которую можно доить вовсю. О, если бы ты знал, какая это жадная и тупая пакость – крестьяне. Вот видишь: поддержки в семье я не встречу. Друзья – свора завистников или куча вредного дурачья. Я не могу здесь работать. Меня всё раз-дра-жает… – сказал он, весь искривившись мучительной гримасой, как будто проглотив что-то кислое и отвратительное. – Нет, кацо, я не могу здесь работать. Вот получу сейчас деньги, тысячу рублей, и уеду в Ленинград навсегда. И там вот начну работать. Ты понимаешь, я хочу работать. Я буду работать, – почти прокричал он с упрямым раздражением.
– Когда ты едешь?
– Сегодня, с вечерним поездом.
– Во-первых, ты не достанешь на сегодня билеты. Сейчас, перед праздниками, билеты на все поезда в Ленинград давно уже проданы. Мне приходилось встречать людей, выезжавших пригородными поездами вёрст за 50 от Москвы, чтобы оттуда достать сейчас билет на Ленинград. Иначе, говорят они, достать невозможно.
– Не беспокойся, кацо, – и Есенин хитро и самодовольно улыбнулся, – уже всё устроено. Билеты уже оставлены в кассе, остаётся только их взять. Пусть для других это и невозможно, для меня это ровно ничего не стоит. Меня жизнь избаловала и балует: для меня – всё легко.
– К кому же ты едешь в Ленинград?
– Ни к кому.
– Где же ты остановишься?
– Сам не знаю. Возьму номер в гостинице и буду жить. Буду жить, ты понимаешь, спокойно, там нет рядом дрязг и склок. И буду писать.
– Ну, милый мой, это, конечно, правда, Питер – красивый и тихий город, но город большой. Этой шатии и там сколько угодно. Она облепит тебя и завертит, лишь только узнает о твоём приезде.
– Нет. Я прикажу швейцару никого не пускать.
– Эх, друг, – усмехнулся я, – видно, плохо ты себя знаешь. От себя, милый друг, никуда не убежишь. Я на твоём бы месте и при твоем настроении махнул бы куда-нибудь в глухую деревушку, законопатился бы там в какую-нибудь избушку, как крот, и писал бы.
– В деревню?! О нет, только не в деревню, – и в глазах его метнулись искорки страха. – В деревне, кацо, мне всё бы напоминало то, что мне омерзительно опротивело. О, если бы ты только знал, какая это дикая и тупая, чисто звериная гадость, эти крестьяне. Из-за медного семишника они готовы глотки перегрызть друг другу. О, как же я ненавижу эти тупые и жадные жестокие морды. Как прав Ленин, когда он всю эту мразь, жадную, мужичью, согнул в бараний рог. Как я люблю за это Ленина и преклоняюсь перед ним.
– Ну, братец мой, Ленин не особенно-то был сторонником того, чтобы гнуть крестьян в бараний рог, и вообще, ты зря перегибаешь палку.
– Ну, коль не Ленин, то Троцкий. Я очень люблю Троцкого, хотя он кое-что пишет очень неверно. Но я его, кацо, уверяю тебя, очень люблю. А вот Каменева, понимаешь ты, не люблю. Полувождь. А ты знаешь, когда Михаил отрёкся от престола, он ему благодарственную телеграмму залепил за это самое из… Ты думаешь, что я беспартийный, то я ничего не вижу и не знаю. Телеграмма-то эта, где он… она, друг милый, у меня.
– А ты мне её покажешь?
– Зачем? Чтобы ты поднял бучу и впутал меня? Нет, не покажу.
– Нет, бучи я поднимать не буду и тебя не впутаю. Мне хочется только лично прочесть её, и больше ничего.
– Даёшь слово?
– Даю слово.
– Хорошо, тогда я тебе ее дам.
– Но когда же ты мне ее дашь, раз ты сегодня уезжаешь? Она с тобой или в твоих вещах?
– О нет, я не так глуп, чтобы хранить её у себя. Она спрятана у одного надёжного моего друга, и о ней никто не знает, только он да я. А теперь ты вот знаешь. А я возьму у него… Или нет, я скажу ему, и он передаст её тебе.
– Даёшь слово?
– Ну, честное слово, кацо. Я не обманываю тебя.
– Идёт, жду.
Пиво было выпито, и он хотел позвать официанта, чтобы тот подал ещё. Но я разубедил его.
– Пить я больше не буду, – сказал я, – потому что надо ещё будет работать. А тебе пить совсем не советую. Вообще, губишь ты себя, Сережёнька, оттого, что пьёшь. Неужели нельзя совсем перестать? Неужели нельзя найти наслаждение жизнью в самом ходе жизненной борьбы? Смотри, до чего себя довел, до лечебницы, до «Чёрного человека».
– Ерунда, из лечебницы меня выпустили и сказали, что лечить меня не от чего. Так-таки прямо и сказали. А «Чёрного человека» я давно уже написал. Я после него еще много других вещей написал, и не в этом дело. А пить я не брошу. Почему? – и он опять лукаво улыбнулся с наивной хитрецой. – Скучно, кацо. Ты понимаешь, мне скучно, и я устал. Вон, Воронский, болван, орёт, что я исписался. Врёт он, ничего он не понимает в искусстве и не понимал никогда. Ты не веришь? А я тебе говорю определённо. Это мы только нарочно тогда допустили, чтобы он разыгрывал из себя советского покровителя литературы. Он делал вид, что он нам покровительствует, подумаешь, покровитель какой…