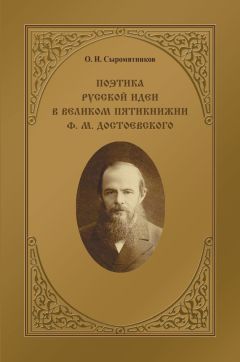65
Я сознательно уклоняюсь от конкретного обсуждения тех или иных публикаций (а среди них есть работы и крайне низкого, и самого высокого уровня); оно потребовало бы дробления темы, а мне важно сосредоточиться на целом.
К тому же печатали они в основном мемуарные, «исторические», а не собственно литературные произведения; кстати, если процесс «наследования» войдет у нас когда-нибудь в нормальное русло, мы неизбежно последуем их примеру, ибо литературный ряд исчерпается, а «документальный» — не знает границ.
Как бы мы ни морщились, ни ворчали на уровень текстологической подготовки в «Огоньке», на хаотичность и непоследовательность его нынешней «архивной» части, — нехорошо забывать: именно он протаранил брешь в стене, отделявшей нас от нашего же прошлого. Я уже говорил об этом, но готов повторить еще раз: было бы сущей неблагодарностью отрицать роль «огоньковской» поэтической антологии, составленной Е. А. Евтушенко, в популяризации самой идеи наследия, в психологической и общеобразовательной подготовке миллионов людей к резкому усложнению и даже полному пересмотру их воззрений на отечественную историю последних семи десятилетий.
В целях экономии места здесь и далее библиографические отсылки даются только к цитатам из произведений, не переиздававшихся в советское время.
Цит. по кн. Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977, с. 117.
См.: Эйдельман Н. Я. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826–1837. М., 1987, с. 16.
То, что с «Петром Великим в Острогожске» Пушкин творчески работал и раньше, самоочевидно: его стихотворение «Дон» (1829) говорит само за себя.
Особенно если вспомнить строфу из «Петра Великого в Острогожске», обращенную к самодержцу: «Страшный в браня, мудрый в мире, /Превзошел ты всех владык,/ Ты не блещущей порфирой,/ Ты душой своей велик».
Бежит речка по песку /Во матушку во Москву,/ В разорену улицу, /К Аракчееву дворцу./ (…) /Тут и плавали-гуляли /Девяносто кораблей./ Во веянием корабле / По пятисот молодцов, / Гребцов-песенничков./ Сами песенки поют, / Разговоры говорят». — Цит. по кн.: «Русская историческая песня». М., 1987, с. 450.
О том, как осужденный невольник последними словами поносил монарха; тот не расслышал, спросил приближенных, — и: «Он о тебе к Творцу, любимец отвечал,/ Моленья воссылает/ И с сокрушением, с слезами умоляет, / Чтоб жизнь ему ты даровал! — / «Свободен он! Прощать для сердца утешенье». Один из завистливых чиновников тут же сообщает о действительном положении дел, но — «Нет нужды! На него я милость обращаю./ К добру меня влечет Любимец верный мой./ В жестокой правде нет отрады никакой./ И благотворну ложь я ей предпочитаю». Не забудем также более поздние стихи его гениального племянника: «Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман».
Гаспаров М. Л. Семантический ореол пушкинского четырехстопного хорея. — В кн.: «Пушкинские чтения в Тарту…» Таллинн, 1987, с. 53–55.
«Вестник Европы», 1807, ч. 33, № 9, с. 39–43, без подписи.
«Цветник», 1809, ч. 2, № 4, с. 82–84, подпись «Д-нъ».
«Русский вестник», 1808, т. 4, 11, с. 227, без подписи.
«Русский Вестник», 1813, № 3, с. 75—77
Украинский вестник на 1816 год», ч. 1. с. 76—77
«Демокрит», 1815, ч. I, с. 20
Воспоминания. Аполлинария Петровича Бутенева. «Русский архив», 1891, № 9, с. 5, 8.
Ср.: «До Пароса и до Лемна / Их проносятся струи» («Богине…») — «Мрамор дивный из Пароса / И кораллы на стенах» (Батюшков, «Счастливец. Подражание Касти»); о раскавыченной цитате из «Богини…» в батюшковском «Ложном страхе» сообщает любой комментарий; очевидную проекцию из нее находим в «Любви в челноке».
И пародийного повторения ее в эпиграмме (1830) на «Невский альманах»: «Вот перешел чрез мост Кокушкин, / Опершись […] на гранит, / Сам Александр Сергеич Пушкин / С мосье Онегиным стоит».
А также до самоочевидных параллелей в цитированных выше стихах Жуковского (ср. хотя бы муравьевское вдохновенное: «До Пароса и до Лемна…» с этим двустишием: «От Кавказа до Алтая, / От Амура до Днепра…»), Розена (финалы: «Въявь богиню благосклонну / Зрит восторженный пиит, / Что проводит ночь бессонну, / Опершися на гранит» — и: «И природы клик утешный / Иногда раздастся там, / Как в столице многогрешной / Рог пастуший по утрам»).
С. Н. К семейству N. N. (Сочинено в чужих краях). «Вестник Европы», 1819, ч. 106, № 14, с. 97–99.
См. образцовую работу А. Л. Осповата и Р. Д. Тименчика «Печальну повесть сохранить…» (М., 1987).
Опять — вольное или невольное (скорее последнее) вовлечение в магический круг канона отголосков рылеевской думы («Там, где волны Острогощи…»).
Впрочем, в том же 1853 году Вяземский совместит «контекст» с «каноном» в цикле «Поминки», но тому есть особые причины, о которых речь ниже.
См.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…», с. 109–111. О связи «Пира…» со «Всадником» ср.: Архангельский А. Стихотворная повесть А. С. Пушкина «Медный Всадник». М., 1990.
Интересно сравнить одну из последних строф у Бенедиктова: «Раз, заметив захолустье, / Лес, болотный уголок, / Глушь кругом, — при Невском устье / Заложил он уголок», — с одной из первых у Майкова.
Контекстное бытование мыслимо также, если «исходные», играющие роль всеобщего эквивалента духовности тексты имеют широкое хождение в народе, — но это касается лишь религиозных и обрядовых текстов, между тем как русскую культуру XIX века ни религиозной, ни устной не назовешь.
См.: Живов М. Поэзия Мицкевича в русских переводах и откликах русских писателей. — В кн.: Мицкевич А. Избранное. М., 1946, с. 34.
Опять избрано «географическое» построение стилевой формулы «от… до…», подобно Жуковскому, Муравьеву и другим поэтам, цитированным выше.
Опубликовано в статье И. Г. Ямпольского «Неизданные стихотворения и письма А. Н. Майкова о Пушкине» («Временник пушкинской комиссии. 1975». Л., 1979, с. 46–47).
Одновременно Мандельштам «аукается» с хореическими опытами Гумилева; вспомним «Капитанов»: «(…) Но смолкает зов дурмана, / Пьяных слов знакомый лёт./ Только рупор капитана / Их к отплытью призовет».
Одновременно Мандельштам «аукается» с хореическими опытами Гумилева; вспомним «Капитанов»: «(…) Но смолкает зов дурмана, / Пьяных слов знакомый лёт./ Только рупор капитана / Их к отплытью призовет».
И опять — как узнаваемо «рылеевское» начало в только что процитированном стихотворении Ахматовой: «Город чистых водометов, / Золотой Бахчисарай / (…) / Там, за пестрою оградой, / У задумчивой воды / (…)»; как явственны стилевые созвучия у Блока с этими пассажами Вяземского: «И все строже, все прилежней, / С обольщеньями в борьбе, / На таинственных скрижалях / (…)»; «Сходит все благим наитьем / В поздний сумрак на меня, / И событье за событьем / Льется памяти струя / (…)»!
Поэты послемандельштамовских поколений будут принимать это уже как данность. Поэма одного из лучших лириков младшей генерации 1980-х годов, Тимура Кибирова — «Послание к Л. С. Рубинштейну» — написана с «поправкой» на всю семантическую историю русского четырехстопного хорея, на весь его ассоциативный ряд, от стихов Державина до Мандельштама включительно. Но эта «поправка» несет в себе трагический смысл; она служит знаком невосполнимой ничем утраты. Чуть подробнее об этом будет сказано в послесловии к книге.
Скажем, в эмигрантской газете «Руль» 8 апреля 1928 года Ж. Нуаре так иронизировал над решением Президиума ВЦСПС в честь юбилея Горького присвоить его имя пекарням Москвы и Казани: «Огорошен обыватель./Хлещет, плещет гул молвы:/ — Горький Максимум писатель / Избран пекарем Москвы! / Да утихнет гул полемик! / Ах, ужель вам невдомек: / — То, что было академик,/ Стало нынче — хлебопек (…)»