Сразу и бесповоротно я понял: здесь последний рубеж, и русская интеллигенция, во всяком случае, провинциальная, да будет представлена достойнейшим образом. Образ врага, пестуемый в недрах КГБ, сколько достанет сил, я обязан разрушить. Вероотступника они не создадут прежде всего потому, что вероотступники они, и я верну, должен вернуть, к лучшим заветам эти заблудшие души. Должны они внять: любовь к Отечеству призывает меня быть таким, каков я есть, но нигде и никогда я не позволю низвести поединок наш к противостоянию ненавистников. Благие порывы, благие надежды!
Вижу беспощадным глазом – молодой Петр Мазанников если и любит меня (жертву можно любить любовью истязателя), то прежде всего – как персонаж героической своей судьбы. Мазанникову дадут медаль за меня (а Дубянскому и Оводу – ордена и внеочередные звания), и хотя бы за медаль стоит быть почтительным и вежливым и просить у Бориса Ивановича прощение за неделикатные вопросы. Но могут ли быть деликатными вопросы в стенах этого злого учреждения?
Осенью 82-го года старший лейтенант Мазанников совершает опрометчивый поступок. В его присутствии начальник следственного отдела областного КГБ Герман Дубянский напыщенно, с дрожью в голосе, зачитывает постановление об этапировании в Омскую психушку.
– Вот и вся игра ваша, – роняю я. Дубянский никак не реагирует на горькие мои слова и приказывает Мазанникову отбыть в отведенную комнату, где ждать вызова к автомашине. Все достаточно необычно и тревожно, я не выдерживаю и спрашиваю: « Уж не спецназом ли меня повезут прямо в Омск?»
– Самолетом, ближайшим притом, – ответствует Дубянский. Что-то поджаривает гэбистов, или торопятся сплавить меня подальше и навсегда. Сейчас, невольно поддаваясь забытому переживанию, я употребил вульгарные слова «поджаривают» и «сплавить», и мне стыдно, но не хочу исправить, лишь прошу прощения у читателя, воспитанного как и я на великой русской литературе.
Мазанников выводит в коридор и через коридор в кабинет, похожий на камеру-одиночку. Стол, два стула. Окно во двор, широкая решетка без намордника (намордником называют жалюзи). Здесь я коротал немало часов между допросами и привык к одиночке. Знаю, во дворе комитета никогда курицы живой не увидишь, но зато – небо, пусть в решетку – но просторное и далекое. Ласточки накануне дождя простреливают облака.
Мы усаживаемся, Петя угощает хорошей сигаретой.
– Почему почет такой, Петр Николаевич? Не «Столыпиным» выпроваживают, а Аэрофлотом?
– Если «Столыпиным», – отвечает Мазанников, – начнется утечка информации.
Плохи твои дела, Черных, думаю я, если замыслили спрятать тебя в чужом городе, и без свидетелей. Но могли бы не объявлять и постановления о направлении в Омск. Зачем объявили?
– Петр Николаевич, а зачем рассекретили мое убытие в гости к Верховному правителю?
Мазанников молчит, вырешивая, сказать или не сказать ответ, но говорит:
– Хотелось посмотреть, как вы поведете себя, броситесь ли на колени.
– Вот и вся игра, Петя, – повторяю я.
– Да вдруг это к лучшему, Борис Иванович?
– Нет уж, лучше зона, даже уголовная и карцер, а не психиатрическая больница.
Мазанников подходит к окну, стоит молча, наблюдая за двором, и, неожиданно извинившись, уходит. В дверях клацнул ключ. Шаги Мазанникова замирают по коридору.
Теперь я подхожу к окну, двор привычно пуст. Но внезапно я вижу – две совершенно инородные женщины, измазанные известью, волокут ведра. Следом маляр, в дряхлом комбинезоне, несет кисти. Я подставляю стул, пытаюсь открыть форточку напрочь, форточка отпирается наружу. Бросаюсь к столу, на столе бумага и карандаш. Пишу записку: «Иркутск, люди добрые, отнесите сразу писателю Дмитрию Сергееву. Улица Лермонтова, 97, кв. 34. Дима, увозят в Омскую психушку. Борис Черных», скатываю в комочек и снова жду оказии у окна поднявшись на подоконник, при этом слушаю коридор.
Тихо. Бабы опять несут гашеную известь. Сильным шепотом (вдруг в соседних комнатах люди, и окна приоткрыты, услышат) окликаю: «Бабоньки, бабоньки», – женщины стреляют по окнам, видят изможденное лицо очкарика в решетке окна. Выдернув руку в форточку, бросаю со второго этажа катышок в ноги. Напугавшись, женщины быстро уходят. Идут томительные минуты. Я запер фортку и притаился у оконного косяка. Вечность стучит в висок. Идут на пару мужик и баба. Мужик умело роняет кисть и поднимает ее вместе с катышком. О, Русь моя!
Благодарно машу рукой, мужик вкось ловит в поле зрения мое окно.
Может быть, гэбисты разыграли меня?– вопрос ехидный, придется подождать, прежде чем получу на него ответ.
Слышу шаги за спиной, отхожу от окна.
– Отбой, – сообщает Мазанников, – в порту нет горючего. Дожили. В резиденцию Верховного повезут вас завтра.
Хожу по Колчаковским местам, думаю я молча. Незадолго до ареста сын, будущий историк, добыл из спецхрана стенографическую запись допроса адмирала Колчака. Вместе с Дмитрием Сергеевым, Геннадием Хороших и Андреем – по цепочке – мы читаем бесценные свидетельства. Прост и пространен в ответах Колчак, он понимает – дни его сочтены. И Озими свои хочет оставить для России. Когда насытится она кровью и пробьет час внять горьким истинам – приникнет к роднику и запоздало узнает, что не тем богам поклонялась и даже женщин не тех славила в легендах и песнях. Опереточные, но по колено в крови, Лариса Рейснер, Александра Коллонтай, Надежда Крупская, что и кто вы рядом с русской девушкой Аней Тимиревой? Она осталась с обреченным Колчаком в каземате. В чем же вина ее? Любимого увезли зимней ночью на берег той реки, через которую каждый день возят меня на допросы, и расстреляли без суда. А что же вы сделали с Анной? Уготовили пожизненную пытку – четырежды арестовывали, вели и гнали по дальним этапам, мучили голодом во вшивых бараках. Но без единого стона Анна Тимирева добредет до погоста...
Простите, Мазанников, я отвлекся...
Международным лайнером, шедшим из Сеула на Москву (для сеульского рейса отыскали горючее, я так понял высокую честь, оказанную арестанту), привезли меня в Омск. С охранниками в штатском я все равно осовел от блеска и шума чужой жизни, от итальянской и английской речи. Где-то над Новосибирском нам принесли обед с сухим вином. И тут под говор римлян самое время вспомнить об... Антонио Грамши.
Режим Бенито Муссолини создал политическому узнику А.Грамши диковинные условия содержания под стражей. Я прочитал об этом в 101 камере Красного, когда по моей просьбе тюремная библиотекарша принесла книжку об Антонио, изданную в серии «ЖЗЛ». Мне и сейчас нет смысла стыдиться – итальянская ветвь в социализме, единственная, давно интересовала меня, и теоретик Грамши заставил давно прочитать его «Тюремные тетради».
Но почему-то не догадался я тогда еще полюбопытствовать, каким образом «Тетради», с солидным исследовательским аппаратом, оказались на воле? Неужто в тюремный персонал была внедрена подпольная революционная организация?
Все до обидного просто. В так называемом застенке Грамши имел возможность выписывать и читать европейскую, не только итальянскую, периодику, к его услугам – абонемент государственной публичной библиотеки. Он мог писать и затем написанное передавать во время свиданий родственнице (сестре жены, а жена находилась в Советском Союзе, по советским-то понятиям еще пара обвинительных статей – связь с заграницей). Но дуче пошел дальше – он не препятствовал узнику питаться из внетюремной столовой (скорее всего, ресторана), в рационе итальянца – всегда молочное, свежие фрукты и... сухое вино.
...Сухое вино я отдал охранникам. Я и без того опьянел – надоблачное солнце било в иллюминаторы самолета.
В Омске по лицам иркутских эмвэдэшников я вижу – они сердечно переживают за меня, да и за себя тоже. Ведь это им поручили неблагодарную роль – сдать человека в пыточный околоток. Земляне, одолевая пространства в международных лайнерах и запивая их виноградным вином, не услышат крик обреченного. Старшина Вострюков, в застойных морщинах, полуобнял клешней, когда, в полосатой робе, вывели меня в коридор, чтобы засвидетельствовать окончательную передачу политзэка в руки психиатров.
– Ну, доучивайся, – сказал я Вострюкову, стиснув руку его и втайне надеясь, что многолетний студент-заочник юридического факультета Вострюков проговорится на зимней сессии Гоше Орлову, кандидату наук и старому приятелю моему, о пассажире международного рейса (во время полета выведал я о заочных тревогах старшины и назвал Орлова в качестве безусловного покровителя).
Сутулая крестьянская спина Вострюкова мелькнула и скрылась из глаз. В чужом, неведомом городе я остался один на один с судьбой.
Здесь, у последней черты, я воззвал к Богу. Ранее я боялся обратиться к нему, стеснялся, как стесняюсь говорить сейчас о моей слабости. Когда Александр Васильевич Колчак стоял под пулями в Порт-Артуре и под артиллерийским обстрелом на флагмане, изгоняя «Бреслау» из Черного моря, когда он встал у проруби на льду Ушаковки, – он имел право заговорить с Христом. Имею ли я его сейчас? Но маменька приготовляла меня к встрече с ним, я уклонялся внешне, а в душе-то всегда молился неумелой молитвой.
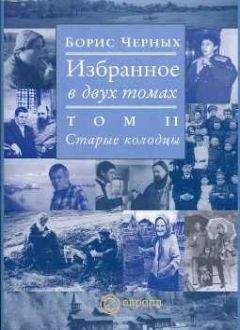



![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)
