– В самом деле? Вы уверены? – Валерий неуверенно улыбнулся.
– И не могли вы предупредить медицинский персонал. С вас взяли слово молчать о том, кто я такой и откуда. В чем же виноваты?
Но нянька приняла безропотно пельмени...
Бедный, бедный доктор. По страшному секрету он сказал, что «они не получат запрашиваемого диагноза», но не рискнул сказать роковое признание вслух и написал слова о диагнозе на лафтачке бумаги, молча подал, но в руки мои не отдал, – чтобы я прочел, – и сжег на спичке.
Я ни капельки не осуждаю его. Жена Валерия Алексеевича принесла двойню, мальчики голосистые и прожорливые, и все помыслы доктора – о маленьких сыновьях. Он мечется по Омску в поисках детского питания. Перевести бы пацанов на коровье молоко, но окрестные крестьяне только в зимние холода везут молоко, мороженное кружками, на рынок, а сейчас на дворе, в степи и на городских улицах ростепели. В бутылочной расфасовке водица, а не молоко, неможно богатырей выкармливать синей водицей. «Ох, мальчики мои...»
Скоро я увидел омских опричников с мятущейся искоркой в блудливых глазах: они повержены в недоумение. Ловко вывезли живого человека из Иркутска в Омск, и можно заживо хоронить, и вдруг – на тебе! Столица Сибири, Москва и западные голоса разносят по миру то, что столь тщательно сокрывалось и пряталось. Времена, ребята, настали другие, непредсказуемые, хотелось сказать мне, но я молчал в ответ на дурацкие вопросы.
Одолев невидимый барьер, скоро доктор пригласил тайного пациента и заявил вслух: «Почитайте. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Я прочитал диагноз, хотя можно было и не читать. После разглашения ситуации играть с огнем решился бы только отъявленный негодяй.
– Завтра или послезавтра вас повезут в институт Сербского, будут делать вид, что для того и носят на крыльях, чтобы безошибочно диагностировать. Но в Серпах уже едва ли смогут побороть мой диагноз.
Я сдержанно благодарю психиатра и прошу разрешения посмотреть том Ивана Бунина на докторском столе. На самом деле я беру листок бумаги и, пользуясь паузой, пишу: «Я доверяю вам и хочу оставить тетрадку. Лет через десять, коли не найду вас, найдите моего сына и передайте», – доктор кивком головы обещает соблюсти просьбу. Из-за пазухи я вынул тетрадку школьную и отдал ему. Но придется ли мне цитировать запредельный документ? А сейчас говорю понятное в те дни: в стране, повязанной фашистами уже шестьдесят пять лет, страх надломился. Режим еще выкаблучивается, он все еще норовит примеривать звездный мундир на гнилых плечах, но светлые силы одолевают темень…
Так попал я в фантастическое положение. Опять самолет понес меня над страной, а черная «Волга» тащила, как кляча, по улицам Вавилона и втащила в ворота дворца. Они раскрыли зев и следом захлопнулись, тихие офицеры вели по ковровым дорожкам. Я разглядывал, куда попал, в какое подземное царство. Сокамерники сообщили, что в Лефортово. Я благоговейно смолк, услышав шаги Александра Исаевича Солженицына и дыхание, Марина, прекрасного Твоего Глеба (Солженицын далеко, а Глеб рядом). В бетонных двориках я пытался на прогулке вынюхать запахи Твоего дома, но тщетно. Зато в Серпах, когда врачи поставили на выстойку лицом к окну, я всмотрелся в городской пейзаж и поплыл. На балконе дома напротив я увидел незабвенного Лена Карпинского. Лен курил и тоже смотрел в мою сторону. Много лет назад мы сетовали, нет ли в затее поселить Карпинского окнами на институт имени Сербского дурного умысла держать постоянно пред одним из главных оппозиционеров страны зеркало судьбы, пусть гипотетической в принципе, но с точностью расчислить будущее никто бы из нас тогда не взялся.
И вот мы, разъединенные всего лишь сотней метров, провидцы и странники, предпочитающие крепкий домашний уклад странничеству, смотрим судьбе в суровые очи. Боже, как выхудал ты, Лен, и глаза запали. Куришь простые сигареты, один из прекрасных безработных России. Блистательный ум, философическая оснащенность и основательность, – опыт, да, пусть опыт функционера в диковинном государстве, но опыт бесценный. Именно этот опыт вооружил Горбачева и Ельцина универсальным знанием системы. Надо выдержать, Лен, надо устоять; мы еще пригодимся России в лучшем качестве сыновей горемычных, преданных ей до гроба. Мы никогда не удалимся в Палестины, слышите, господа. Мы готовы уйти в скит на время, но вы не дождетесь, что мы уйдем с этих балконов, откуда открывается страшный вид на Зазеркалье. Мы останемся...
А помнишь, Лен, тот разговор, когда «Известия» пришли с сообщением: никому неведомый провинциал из Ставрополья избран секретарем ЦК партии, всего-навсего одним из секретарей? И ты сказал: «Если он поднимется и не сорвется, он начнет реформы».
1977-й год? Или 78-й?
Ранее мы надеялись на Косыгина, потом была зыбкая ниточка: вдруг закусит удила Катушев? Не закусил. Хуже того – они пятились и боялись свежего ветра. Стагнация общества с неизбежностью подвела Россию к пропасти. Они заглядывали туда и содрогались.
– Почему ты уверен, Лен, что именно он начнет?
– Потому что он понимает – в тоталитарном государстве духовное возрождение невозможно. Тоталитарное государство обречено на смерть. Надо мирным путем трансформировать его в правовое. И он понимает это.
– Ты знаешь его взгляды из первых рук?
– Когда я был секретарем ЦК комсомола, а он секретарем крайкома комсомола, мы успели обстоятельно говорить о России. Он понимает, что Россию надо поднять.
Допустим, он сдвинет Россию. Тяжелая на подъем, она сдвинется с места и пойдет. Но куда?
– К миру, Боря. Мы ушли от мира, отгородились стеной. Вернемся к миру и, оставаясь собой, начнем путь национального преображения.
– О, красиво-то как! Но каждому придется принять личное решение. Ты готов к нему. Я готов. А мужики годами, десятилетиями бьют баклуши на общественном производстве. Они согласятся принять решение и пойти на личную деляну, где ты один на один с ветром в поле?
– Выбора не будет.
– А вчерашние соратники объявят его Лжедмитрием, предателем и пр., и пр. Между прочим, придется что-то делать с коммунизмом. Доктрину придется менять.
– Коммунизм придется преодолеть, как преодолевают болезнь. Выздоровление тоже будет нелегким, с возможными осложнениями, болезнь была тяжелой. Но надо сказать правду народу: мы больны и умрем, если не признаем истинного диагноза...
– А ты преодолел болезнь? Ты носил в себе такую святую веру в социализм. Успел ли ты сам внять истине?
– Преодолею. Хотя и тяжелая доля – одолеть хворь, которую успел полюбить и считал здоровьем. Он тоже будет преодолевать болезнь на ходу.
– Господи, каких только собак не навешают на него.
– А главное, потребуют сказать, зачем приходил. Но его уже не будет.
Никому, Лен Вячеславович, я не рассказал о наших беседах. Впрочем, однажды в рабочей камере штрафного изолятора московский сиделец Лев Тимофеев попытается низвести с пьедестала Лена Карпинского, «марксиста и догматика», и тогда мне придется сказать, что он вещает с чужого голоса, и лучше не вещать, по крайней мере, в камере Шизо... А книги, да, страстью нашей были книги, это справедливо больше по адресу Карпинского, нежели Распутина (последний всегда был занят более собой), – сейчас книги, которыми снабжал ты меня, Лен, идут по следственным кабинетам, но я не выдам тайны, откуда и как пришли Джилас и Дубчек в Ботанический сад.
А если суждено нам встретиться, я выведу тебя на балкон твоего дома, откуда ты сейчас смотришь, тоскуя, в космос, и расскажу о шведке Тальке, которая спасла меня в Серпах – спасла в прямом, не в переносном смысле: будучи психиатром, она поставила безошибочный диагноз о начавшемся воспалительном процессе в печени, и в палате Серпов успела уколами вытащить меня из тюремной могилы. Прапрадед ее, плененный Петром Первым под Полтавой, оставил ветвь в чужой державе, и я не нашел суровых слов в адрес Тальке.
Так вернулся я на иркутскую землю окрепшим, почувствовав поддержку невидимых сил. А в стенах тюрьмы администрация неожиданно продемонстрировала презрительное отношение к гэбистам. Видимо, попытка избавиться от политического узника посредством его сокрытия в психушке отвратила тюремщиков от Дубянского и Овода, и до самого суда меня более не испытывали камерами рецидивистов. Однако за стенами тюремного замка продолжался поединок. Пришла пора рассказать, что маяло стороны, точнее – противников, в противостоянии. Но об этом противостоянии и финале драмы я расскажу позже. А сейчас уйдем с кровавой площадки – в ближние леса, ибо заваривается в ближних лесах непредсказуемый тайфун.
Письмо пятое
Русские конформисты
Ни при каких обстоятельствах и невзгодах мы не оставим Отечества. Но и никогда – руководствуясь лишь чувством меры – не назовем себя пафосной партией. Хотя глубокая наша преданность русским озимям не вызывает сомнений, надеюсь.
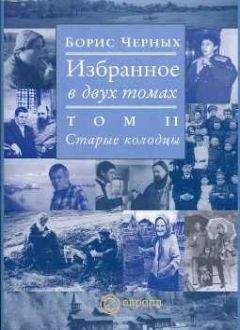



![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)
