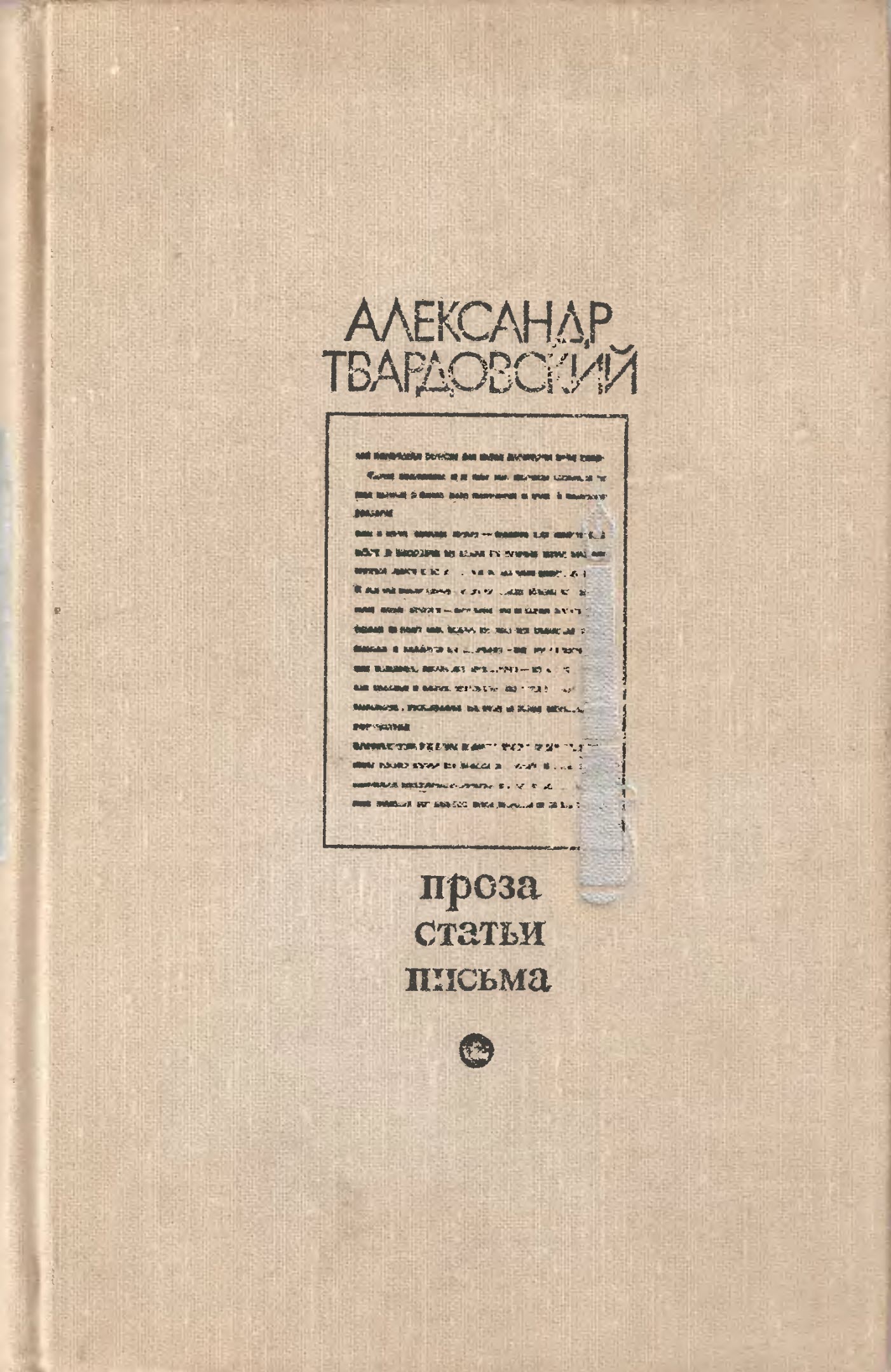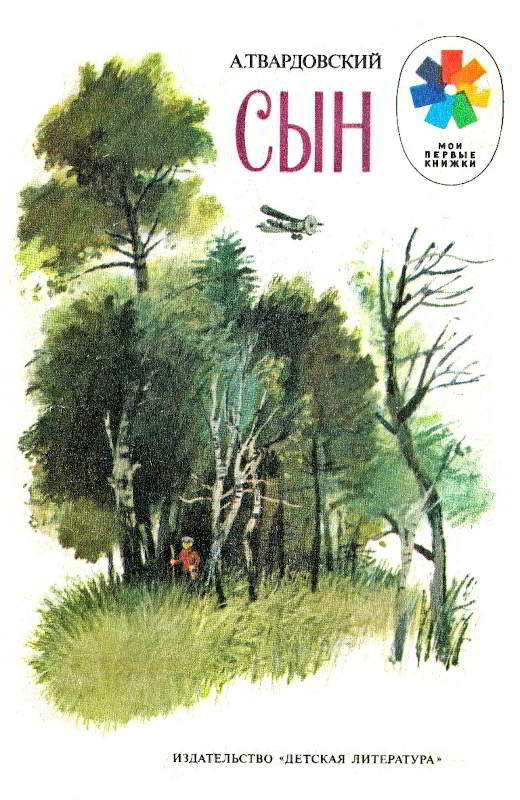знак пощелкивания пальцем в шею. Я понял: он нс это хотел сказать, но удержался от серьезных слов, отшутился…
Еще мне рассказывала о нем девушка из санитарной роты полка, видевшая Красникова в одном тяжелом бою.
— Ползу среди трупов, среди раненых — от одного к другому — и вдруг вижу, ползет Красников, все лицо в крови, улыбается, перевязываться отказался: и так, мол, доберусь. И еще меня подхваливает: молодец, дочка, цены тебе нет, умница моя. Это он, конечно, для бодрости духа мне сказал, — огонь действительно был очень сильный.
…Мне доставляет большую радость дополнить эту запись спустя восемнадцать лет тем, что в мае 1960 года я вдруг получил письмо от Александра Гавриловича Красникова, о котором со дня нашей последней встречи ничего не знал и, по правде сказать, скорее всего мог бы предположить, что с войны он не вернулся.
«С августа 1942 года, — пишет он, — и до конца 1945-го я командовал полком на Дону, на Северном Донце, а дальше — Днепр и Днепропетровск, Восточная Пруссия, Кенигсберг. Много получил тяжелых ран и в 1945 году ушел в отставку со званием Подполковник».
Написание этого слова А. Г. Красниковым с большой буквы оставляю здесь без исправления: слишком дорого, как видно, оно этому простому и славному русскому человеку, чтобы писать его с маленькой.
Люди только что пришли сюда по ходам сообщения, по скрытым тропинкам, вдоль редких придорожных кустиков, по окольным овражкам с передовых постов боевого охранения.
Они по-свойски размещались в хате — кто на низеньких крестьянских нарах, занимающих треть помещения, кто на лавках вдоль стен, а кто на полу, у ног товарищей. Старуха хозяйка оставляла за собой только печку. В иное время она, может быть, и поворчала бы по поводу махорочного дыма, но теперь только изредка отмахивалась от него, хмурясь смешливо и добродушно. Совсем недавно в этой деревушке и в этой хате были немцы. И сейчас они еще не так далеко…
Потемневшие от морозов лица людей, проведших зиму в боях, были такими, какими, казалось, они только и могут быть. Привычная напряженность, серьезность и тень усталости старили их. Но стоило ребятам рассесться в теплой хате, закурить компанией, стоило крепышу-пулеметчику Орехову поставить баян к себе на колени и чуть тронуть его, как все обернулось иначе.
Глаза у всех оживились, губы подвинулись в улыбке, и сразу стало видно, что это таки ребята, молодые, хорошие ребята, которые от души рады этим минутам отдыха и забавы.
Сперва с песней не ладилось. Вышел один и, дирижируя рукой, затянул что-то малознакомое, затянул и скривил, повел не туда. И до того это получилось неловко и жалостно и такой дружный породило смех, что можно было подумать — нарочно парень разыграл этот номер. Но мало-помалу баянист навел на тон, и дело пошло. Пелись больше всего простые, душевные песни — русские, украинские. Политрук Ошеров сидел в центре хора и с превеликим усердием размахивал руками, сводя голоса всех в одно целое и в то же время стараясь подтянуть, подхватить, выручить на самых трудных переходах…
Перед воротáми
Ударь копытáми, —
Может, выйдет та девчонка
С черными бровями…
И простой, милый мотив этой старинной песни уже заметно брал власть над самими поющими. Что-то щемящее, далекое и близкое вместе, живое и неумирающее, свое, родное было в нем, — то, что одинаково дорого и дома и на войне, и на суше и на море.
И когда один голос, вырываясь вперед, но попадая в лад, уже как будто не пропел, а сказал: «Но не вышла та-а девчонка…» — у всех заблестели глаза от сладкой печали и волнения.
А гулянье брало разгон.
— Вальс! — с нарочитой лихостью скомандовал молодцеватый лейтенант Григорьев, и мешковатые пары в шинелях закружились в центре тесно стоявшей толпы нетанцующих.
— Общий! Дамы в круг! — под хохот всей хаты продолжал выкрикивать Григорьев, точно забывая в неудержимости бального веселья, что дамой здесь являлась только хозяйка, лежавшая на печи и с предельным умилением смотревшая на все это.
— Дамы налево, кавалеры направо! Агош!
И с неподкупной деловитостью топтались «дамы» и «кавалеры», задевая противогазами всех стоявших кругом.
Старик хозяин, считавший, видимо, что ему более к лицу находиться внизу, среди всех, чем на печке со старухой, все же то и дело переглядывался с ней, хитро и недоверчиво поводя головой: балуетесь, мол, а неприя-тель-то — вон он, еще близко…
— Встать! — обрывая музыку, говор и шмыганье валенок, раздалась команда: вошел комбат Красников.
— Вольно, вольно! Давай дальше!
— Есть давать дальше. Командир взвода связи, младший лейтенант Глушков, исполнит… — Григорьев сделал паузу и выкрикнул последнее слово: — русскую!
Но не успел тот сделать двух кругов, как наперерез ему кинулся новый танцор. Он дал дробь и, вытянув правую ногу, одной этой ногой начал изображать что-то такое уморительное и необычное, что круг колыхнулся со смеху.
И когда уже баянист хватил «расходную», и комбат Красников смотрел на своих бойцов ласковыми и умными глазами старого солдата, и все было хорошо и красиво — изба содрогнулась от совсем близкого, внезапного разрыва снаряда. Вслед за ним ухнул другой, третий, четвертый — обычная вечерняя порция.
Бабка начала было креститься, но смутилась, видя, что никто из гостей не переменил позы, не нарушил веселья. А дед-хозяии с невозмутимостью видавшего виды человека успокоительно кивнул ей:
— Перелет! В белый свет кидает…
Неизвестно, о чем говорили в эту ночь старик со старухой на печи, но утром возле их хаты мы наблюдали занятную и полную значения картину. Дед вытащил из осевшего, серого сугроба большой старинный сундук, очистил его веничком от весеннего, липкого снега и поволок в сени.
— Что, дед, не боишься уже, что немец вернется?
— Хватит его бояться. Не может быть ему возврату сюда. Кончается его басня.
Три дня свистела страшная предвесенняя вьюга, какие, наверно, только здесь в степи, и возможны. На дорогах позастряли целые колонны машин, в санях также была не езда. Хатенку попродуло насквозь, намело в каждую щель двора, завеяло корову, овец. А сегодня утихло, прояснилось, и стало хорошо — морозно и чисто. Вечером опять закат почти такой, как тот, чю поразил меня на неделе. Тогда я даже остановился и долго не мог оторваться не только от этой картины, но и от самого себя, от своего необычайного состояния. Вряд ли я когда в жизни был так взволнован чем-либо подобным.