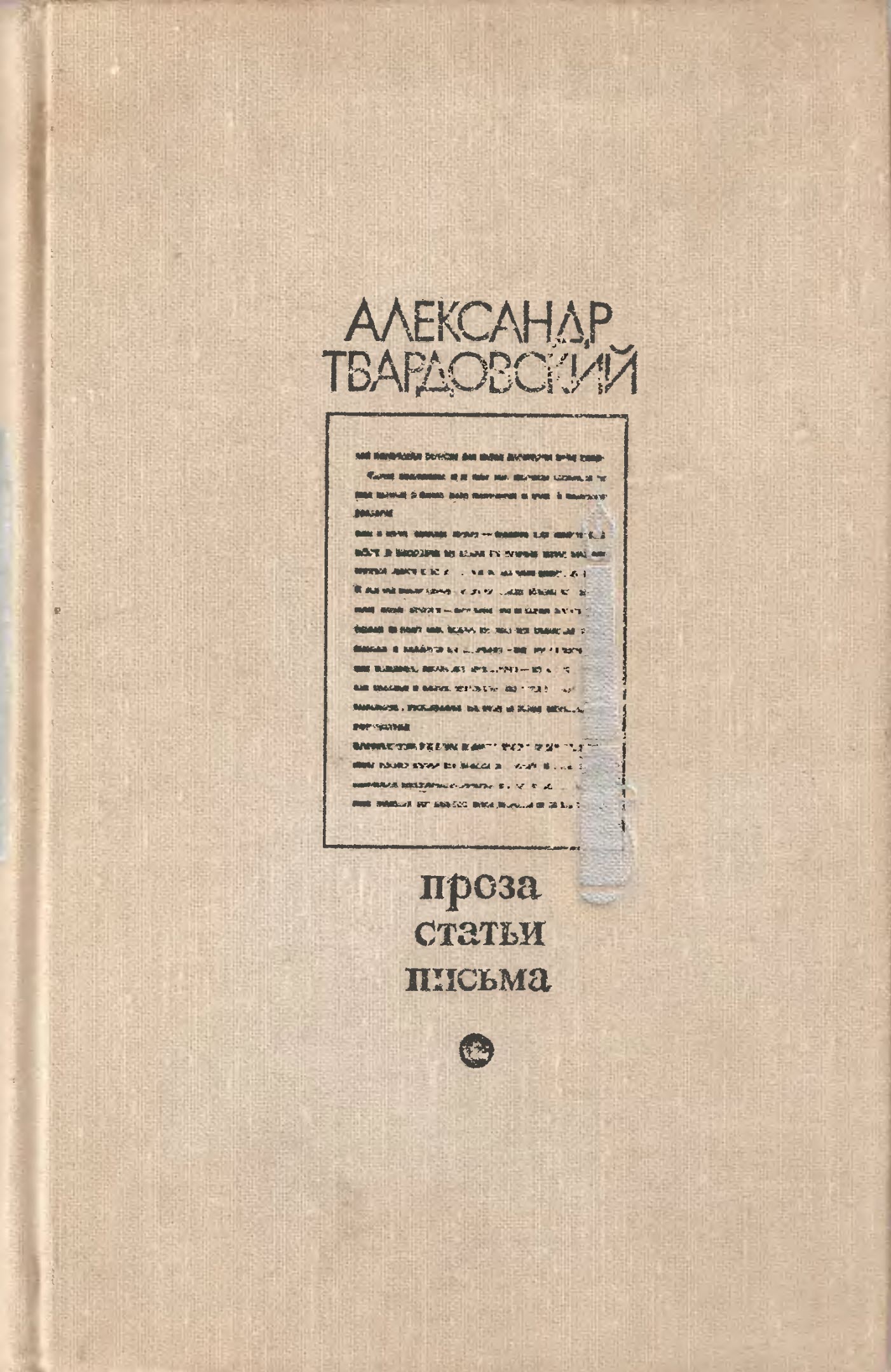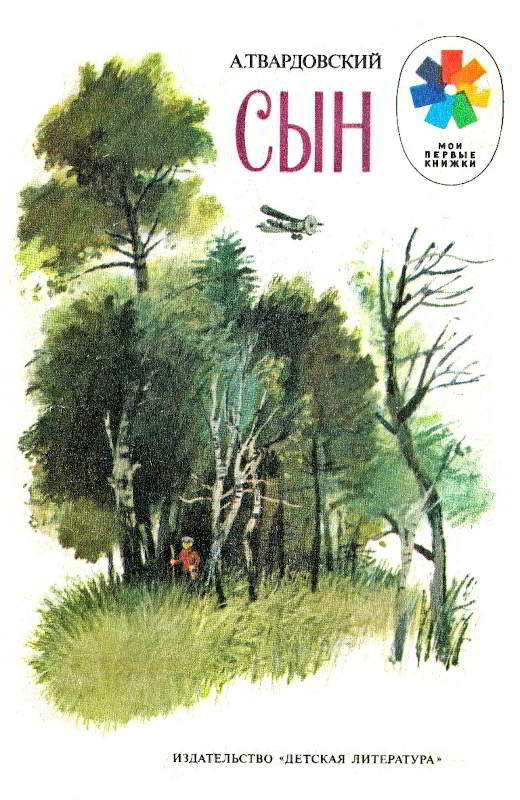Закат стоял над дорогой, широкой, укатанной зимней степной дорогой на выезде из деревни. На необычайном, малиновом крае неба вставали густые синие и черные дымы деревни. И все было так непередаваемо говорящей значительно — степь, Россия, война, — что сжималось сердце и словно нечем было дышать.
Хозяин хатенки, где мы провели эти трое суток степной вьюги, вчера, когда мы уже улеглись на свежей., с надворья, соломе, прикрытой дерюгами, долго и строго молился на ночь. Внятным и громким шепотом он произносил слова, которые показались мне странными, как бы не молитвенными. Когда он улегся на печке, я осторожно выразил свое недоумение.
— Молюсь? — спокойно, но с неохотой отозвался он. — Мало ли… За сынов молюсь — трое уже у меня на войне. За Красную Армию молюсь, дай ей господь здоровья на одоление врага. Так и молюсь, брат. А что?
Он примолк и вскоре, должно быть, уснул, а мы с товарищем долго еще лежали, курили. Долго не угревалась солома под дерюгой.
Мой товарищ сказал:
— Знаешь, уже все места, где я родился, где я учился, служил, где обзавелся семьей и где вообще бывал когда-либо в жизни, — почти все под немцем. Смотри: родился я и жил до призыва в армию на Смоленщине — Смоленщины нет. Служил срочную в Бобруйске, в Белоруссии, — Белоруссии пет. Учился в Ленинграде — Ленинград окружен. Два раза в жизни побывал на курорте, оба раза в Крыму, в ялтинском доме отдыха командиров, — Ялты нет. Вот и все. На восток мне просто нс приходилось ездить. Осталась у меня одна Москва. Правда, я был там только проездом, но был все-таки. И Москва все еще прифронтовой город.
Он говорил тихо, раздумчиво, как бы не веря еще, что все это так и есть. Мне знакомо это ощущение всего происшедшего как некоей жуткой условности, допущенной мысленно и уже изнурившей душу так, что хочется всей силой воли и разума отмыслить, отбросить ее прочь. А нельзя.
То ли во сие я увидел, то ли перед сном предстала мне в памяти одна из дорожек, выходивших к нашему хутору в Загорье, и, как в кино, пошла передо мной не со стороны «нашей земли», а из смежных, ковалевских кустов, как будто я еду с отцом на телеге откуда-то со стороны Ковалева домой. Вот чуть заметный на болотном месте взгорочек, не очень старые, гладкие, облупившиеся пни огромных елей, которых я уже не помню, помню только пни. Они были теплыми даже в первые весенние дни, когда еще пониже, в кустах, снег и весенняя ледяная вода. Около этих пней я, бывало, находил длинноголовые, хрупкие, прохладные и нежные сморчки. Дорога, заросшая чуть укатанной красноватой травой.
Дальше лощинка между кустов, где дорога чернела, на-резанная шинами колес, и стояла водичка до самых сухих летних дней. Затем опять взгорочек, подъем к нашей «границе». Здесь дорожка, сухая, посыпанная еловой иглой. И наше поле, и усадьба, со двором, крытым «до-ром»…
И вдруг вспомнил, что и там — немцы.
Недавно пришел из окружения один работник армейской прокуратуры. Его задержали на передовой и доставили в штаб части. Тут он достает завернутый в тряпицу ржаной пирожок, разламывает его, предъявляет партбилет, прокурорскую печать и все свои документы. Со времени выхода летних окруженцев прошло уже много месяцев, и то, что рассказывал этот человек о положении в тылах противника, интересно как свидетельство иного периода.
Ненависть к оккупантам безусловная и повсеместная. Старосты и прочие прислужники оккупационных властей уже не те, что были вначале. Кто и на совесть прежде служил немцам, теперь стремится чем-иибудь обелить себя перед Советской властью, в приход которой верят все, как в приход весны после зимы. На одной железнодорожной станции прокурор сам видел, как мужики, грузившие на платформы сани для немцев, собрались кружком и с жадным вниманием следили, как один из них чертил на снегу палкой Южный фронт, Крым, объяснял про фланги и т. п.
Сталин, говорят в народе, собрал великую армию и идет на решительный бой. Сеять собираются уже при Советской власти.
И был такой случай.
Прокурор попросился в одной избе на ночлег. Было это уже в двух-трех переходах от линии фронта. Усталый, промокший, пригрелся на печке и задремал. Но спал хоть и сладко, а чутко, по выработавшейся привычке, и сразу же проснулся, когда в избу, где была только хозяйка с детьми, вошли какие-то посторонние люди.
— Придется вам, молодой человек, с этой печки слезать. Переночуете в другом месте. — И, как показалось прокурору, люди эти усмехаются между собою. — Идемте, — говорят, — мы вам укажем ночлег.
Прокурор вышел с ними. Старается пропустить их вперед, а сам высматривает, куда бы метнуться в сторону. Однако видит — ведут его не к центру села, а в какой-то переулочек. И вскоре они, все трое, очутились в другой избе. Поздоровавшись с хозяином-стариком, оба провожатых пожелали прокурору спокойной ночи и вышли. Старик боком, словно петух, прошелся раз-другой перед гостем, присмотрелся и вдруг говорит:
— Ну что, Советская власть, есть небось хочешь? Ищи-ка там, старуха, чего-нибудь в печи.
— Не хочу, спасибо.
— Врешь, есть ты хочешь, это я по тебе вижу. А может, сомневаешься: куда это я, мол, попал, к кому в гости? Так не сомневайся, Советская власть, я тебе прямо объявляю: к кулаку, настоящему раскулаченному кулаку. Вот, брат.
Старик засмеялся, закашлялся, подмигивает гостю, и то ли он злорадствует, то ли что.
— Да, брат. Советская власть, Советская власть! — сокрушенно и вместе как будто восторженно пел старик. — Советская власть, а? То-то, брат… Ну ладно, рассказывай: кто ты есть, откуда путь держишь? Из окружения-то ваши, кто выходил, давно повышли. Из плена, может быть?
Прокурор ответил ему как-то так, что и не понять было, кто он, собственно, такой, а идет будто бы в родные места, и назвал район неподалеку. Там будто бы у него семья, не то родня. Старик все не хотел ему верить, но прокурор так мастерски владел принятой на себя ролью, что тот наконец заметно поддался.
— Ты таки, верно, туда идешь?
— Да вот, иду.
— Хм… А там ведь немцы?
— Ну что ж, — говорит прокурор, — я маленький человек.
— Маленький — так и дела ни до чего нет? Так, что ли?
— Ну, так ли, не так, а все же. Вот и у вас, может быть, сыновья есть, тоже идут где-нибудь.
— Извини! — взвился старик и погрозил в потолок пальцем. — Мои туда не пойдут, куда ты идешь, если ты