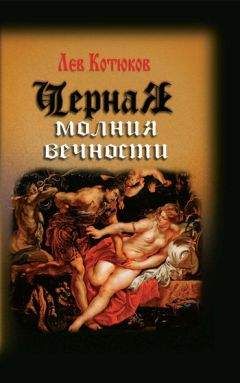Пора наступила. У Сталина в распоряжении вечность. И он в полном распоряжении вечности. А народ наш, просвященный мыльными телесериалами и криминальной дрянью, от художественных журналов воротится, как избалованный ребенок от нормальной, здоровой пищи.
– А Сталин действительно читал все журналы? – продолжал любопытствовать я.
– От корки до корки… – сухо оборвал разговор Друзин.
И вот как-то отставной сталинский референт посетовал:
– Хороший поэт Рубцов, но какой-то успокоенный стал в последнее время, безнадрывный…
Я передал эту критику Рубцову. Обычно спокойный на сей счет, поэт вдруг встрепенулся, вспыхнул, зло высверкнул глазами и почти выкрикнул:
– Байронизма им, видите ли, не хватает! Надрыва!.. Чтоб струна скорей лопнула!.. Да и так уже!..
Оборвал себя и тихо поскучнел.
О, это отчаянное: «Да и так уже!» Если бы знать! О, если бы знать! Но никто ничего не знает! А ясновидение не есть знание. Ясновидение – это воля Господня. Сия воля владеет человеком, а человек не владеет ничем. Но владеет информацией, все большей и большей. И последнее, скудное знание свое безоглядно обращает в информацию.
Что такое поэзия?! Бессмысленный вопрос. Но ответить на него можно вполне осмысленно. Поэзия – это то, что нельзя выразить в прозе. Но нечто существующее и несуществующее невозможно выразить и поэзией. Что есть это нечто?! Опять бессмысленный вопрос. Хотя и на него можно ответить вразумительно. Но воздержимся от ответа. Пересилим себя. Так будет лучше – и для вопрошающих, и для отвечающих. Хватит вопросов! Поговорим просто так… Не получается? Ну, тогда помолчим, ежели, конечно получится.
Известный критик Лобанов в давней своей статье «Сила благодатная» о творчестве Рубцова писал:
«Психологическая объемность поэтической мысли невозможна при рассудочном миросозерцании, она требует прорыва в глубины природы и народного духа».
В основе мысль верная и четкая. Но вот почему «Требует прорыва»? От Рубцова требует? Как будто многие спокойно прорываются куда надо, а Рубцов не желает, хоть тресни. Да, да, именно в таком плане была написана статья, с откровенным призывом к прорывам и надрывам. Милейший Михаил Петрович, увы! как и Друзин, не понял, что этот прорыв состоялся – и сила сего прорыва по сию пору движет русскую поэзию, и не только поэзию.
Человек еще до своего рождения наделен волей не только к жизни, но и к смерти.
Некий интеллектуал, предпочитающий читать Набокова на английском, высокомерно заявил, что воля к смерти у Рубцова преобладала над волей к жизни. Думается, подобное умозаключение неслучайно. Ежели вышеупомянутый господин и Пушкина предпочтет читать на английском, то еще до больших откровений дойдет.
Воля жизни в Рубцове преобладала над смертью!
Говорю об этом категорично, ибо знал поэта не только по его стихам, хотя порой стихи говорят о творце то, что и ему самому неведомо. Но это неведомое – в наших душах, ибо, как глаголет старая истина, «человек – мера всего существующего и несуществующего». Все субъективное есть объективное. И никто не знает: явь порождает сны или сны порождают явь?…
И Рубцов не знал. Но знал, что смерть есть неизвестная форма жизни. Знал, что умрет, но не верил в это. Верил в эту жизнь и любил эту жизнь, а не какую-то иную.
Поэт очень любил жизнь, но, к сожалению, жизнь его не очень любила. За что?! А это уже вне человеческого разумения.
Как и вне разумения страшные провидческие строки:
Я умру в крещенские морозы.
Я умру, когда трещат березы.
Но еще раз жестко заявляю: Рубцов не искал смерти. Он жил вечным возвращением, а не возвращением в небытие. Поэтому с тяжелой душой воспринимал призывы надрываться и рваться в глушь, к тетке, в Саратов. Да и не было, к сожалению, у него ни добрых теток, ни дядек.
Думается, что так называемые поклонники ведали о сем, но со смешками, добрыми улыбками, сочувственными вздохами приветствовали его бездомство, скитания, неприспособленность к социалистическому общежитию – и возвращение в смерть. Так было удобнее и для них персонально, и для жестокой тайной системы, которой они служили и служат в страхе по сию пору. И неизбывен этот не Божий страх, – и нет ему конца во времени земном.
Страдания закаляют душу, но еще и ничтожат, и унижают. Потребительское отношение к таланту в России доходит до безобразия. И все равно потребители еще чего-то требуют. И очень часто потребители обращаются в завистников.
Это мертвому можно могилу в хорошем месте отвести, по блату, в земле с песочком, и памятник поставить на скорую руку. А живому – ни прописки, ни жалкой комнатушки, ведь он живой… А ведь одного звонка высокопоставленных покровителей Рубцова хватило бы и на прописку, и на стандартную однокомнатуху где-нибудь в Чертаново или, на худой случай, в Реутово. Но не звонили, как-то руки не поднимались.
И в то же время по разнарядке тайной системы в столицу выписывались литературные бездари – и наделялись всеми номенклатурными благами, от квартир на улице Горького до престижных дач в Переделкино. Среди сей публики были и «горячо любящие» Рубцова вологодцы, земели, в рот им дышло. Многие живы по сию пору, выдают себя за друзей Рубцова и плачутся лживыми слезами в чужие бронежилеты о «незабвенном Колюне».
У Рубцова было множество житейских недостатков. Но почему, черт возьми, большой поэт обязательно должен быть праздничным подарком для окружающих, ежели сами окружающие, мягко говоря, не юбилейные сувениры?! Но вот поди ж ты – все почему-то желают зреть талант в подарочном исполнении, заодно требуя от него прорывов и надрывов.
Поэты прощают всех, но поэтам ничего не прощают. За редким исключением, подтверждающим правило. Не было этого прощения и Рубцову – и, в первую очередь, за его главный недостаток – он был живым.
– Я предпочитаю голодную свободу, а не сытое рабство! – высокопарно, коряво, но совершенно искренне, возвопил некий неодаренный подражатель Максимилиана Волошина.
– Ну и предпочитай! – с грустью разрешил я – и с еще большей грустью подумал:
«…Брешешь, хрен любезный! Ничего ты не предпочитаешь. И не знаешь ни свободы, ни рабства, ибо голодный человек в силу физиологических причин вне свободы. Ты, любезный хрен, еще вполне сытно живешь! А посему – ты всего лишь раб своих нынешних заблуждений. И вообще, вечный раб своей собственной антиприродной глупости. А поскольку ты нынче и сытый несвободен, то и думать неохота, – кем ты станешь, когда и впрямь с голодухи положишь зубы на полку…»
Однако своё умозаключение я оставил при себе. А полупишущий член союза полунезависимых писателей, потерпевший фиаско и в подражаниях Волошину, и в книжной коммерции, воспринял мое молчание как одобрение, – и совсем воодушевленно возвопил:
– Я завтра же вернусь в литературу! В большую литературу.
– Возвращайся… Но постарайся, чтобы я, как и раньше, тебя там не видел… – без особого восторга согласился я.
– И вернусь!.. Вот увидишь! – скрежетнул зубами свободолюбивый субъект, на большее не осмелился, – и судорожно заспешил по своим свободолюбивым делам.
Странный, однако, народ околачивается в России при литературе. То уходит, то возвращается… Но, увы, ничего ценного не забывает в отечественной словесности. Да и заодно в мировой ничего не забывает, хотя казалось бы…
И кое-кому кажется… Особенно бывшим невозвращенцам, лютым борцам за так называемые общечеловеческие ценности. Возвращенцы-развращенцы, извращенцы-невозвращенцы!..
Да ну их к черту! И во времена Рубцова они были на слуху, и ныне живы и здоровы, и нет им перевода.
Рубцов по всем внешним параметрам годился для диссидентствующей тусовки 60-х. Но невозможно представить его в этой бесовской когорте, ибо иными были параметры его внутреннего мира. Он был поэт Божьей милостью. А такие не нужны – и даже вредны тусовочному отребью литературы.
И не эту ли свободоблудливую публику описал он в замечательном стихотворении «В гостях»:
…Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живей…
Но все они опутаны всерьез
Какой-то общей нервною системой, —
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слез!
И думал я: «Какой же ты поэт,
Когда среди бессмысленного пира
Слышна все реже гаснущая лира,
И странный шум ей слышится в ответ…»
О, этот «странный шум», не шум сосен, не шум и ярость. Но и этот бесовский звуковой морок слышал поэт. Слышал, но внимал Божьему Молчанию, слышал то, что не слышал никто.
А жизнь шла своим чередом, убогий быт норовил заслонить Божественное Бытие – и голодная свобода упорно набивалась поэту в приемные матери.
«Поэт, как волк, напьется натощак…» Весьма верно подметил Рубцов. На голодный желудок легче и дешевле напиваться.
…Поэт, как волк, напьется натощак.