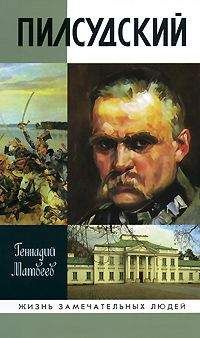Мужик высадил нас в селе, название которого я забыл сразу же после того, как прочитал его на дорожном знаке, и мы отправились искать ночлег, поскольку уже близился вечер. Михал утверждал, что селяне на востоке сами приглашают домой путников с рюкзаками. Так ему рассказывали коллеги в Гданьске, которые на востоке уже были. Что приглашают, самогоном угощают и есть накладывают. Ну а потом сзывают всех родичей, и что сходится все село, и праздник в самом разгаре, с музыкантами и так далее. И с танцующим медведем, — прибавил я, но он меня проигнорировал. Нужно только показаться в селе, сообщил Михал, щурясь. Позволить себя увидеть. И для этого, командовал он, нам следует пройтись посреди села с рюкзаками. Чего, и сколько раз? — спросил я. Если будет нужно, то и несколько раз, — очень серьезно ответил на это Михал.
Ну мы и лазили: с одного конца села в другой, и снова из конца в конец, словно какой-то почетный караул с рюкзаками — отдающий честь павшим польским туристам с рюкзаками или что-то в этом роде. Но никто нами не заинтересовался. Никто даже к забору не подошел. В конце концов, Михал сдался, разочарованный тем, что ему наболтали дружки. Он начал ходить от одного дома к другому и спрашивать. Я же, скалясь во весь рот, заявил, что в жопу, никого спрашивать не стану. И так я уже чувствовал себя по-дурацки, словно кретин дефилируя по главной улице то туда, то сюда. Что касается меня, сказал я, то можно переночевать и на земле. У меня был спальный мешок и каримат. Я был самодостаточен. Но Михал уперся на том, чтобы выпить с местными.
Блин, эта мания бухалова с местными. Тем временем, местные глядели нас как на лесные деревья. Они никак не могли понять, по кой хрен мы вообще к ним приехали, к тому же под самую ночь… Все уже ложились спать и с Михолом говорить не желали. В конце концов, мы согласились с тем, что нужно ехать дальше. Мы выкурили по самокрутке и запили пивком, которое нам удалось купить в магазине после его закрытия лишь потому, что продавщица делала учет. Она с лаской перекидывала косточки счет, словно то были бусины четок.
Было уже очень темно. Звезд на небе не было. Луна была багровой. Никто брать нас на шармака не собирался. Буковые леса пахли свободой и сыростью. Нас же остановили лишь милиционеры. Тут мы серьезно струхнули. При нас было по грамм пять марихуаны на брата, опять же мы были совершенно пьяные. Ну и вообще… Но мужики были нормальные. Сказали нам садиться и сообщили, что подкинут нас на милицейский пост в Рахове, поскольку направлялись как раз туда. Ну а дальше, как сами говорили, как Господь Бог даст. Менты были приблизительно нашего возраста и тоже мечтали о приключениях. Они нас спрашивали, как отнеслась бы польская полиция, если бы вот они шастали с рюкзаками в пограничной зоне в Бещадах. Мы не скрывали, что их наверняка бы записали и отвезли в КПЗ. А они смеялись и страшно гордились тем, что они вот намного лучше польской полиции.
И вот тогда-то этот кретин Михал предложил им пыхнуть. Повисло молчание, ребята-милиционеры глядели друг на друга. Похоже, они не совсем доверяли один другому. Мне казалось, что вообще-то они с охотой бы курнули, но не знали, а не донесет ли другой на него.
— Что ты говорил, Миша? — сделал вид, как будто бы чего-то не расслышал, один из них, похожий на филина из детских сказок. Я прекрасно видел, что им ужасно не хотелось нас садить.
— Папиросу, — сказал я быстро, бросив Михалу взбешенный взгляд. — Можно у вас в машине закурить?
— Нельзя, — отрезал филин, и разговор на этом закончился.
Как только нас высадили в Рахове и уехали, я тут же дал Михалу в торец. Тот этого никак не ожидал. Была полночь, а он лежал на своем рюкзаке и перебирал ногами, словно жук, который не может перевернуться. Из носа лилась кровь. Михал сучил ногами и обещал, что как только встанет, так мне вхуярит, но так уж складывалось, что встать он как раз и не мог, лишь вращался вокруг собственной оси. Я оставил его так и ушел в темноту. Темнота в Рахове — это вам темнота! Ничего не было видно. Даже не было видно местечка, в котором можно было бы разложить каримат и спальник.
Всю ночь я крутился по городку, избегая Михала, который тоже крутился, поскольку ничего другого поделать было нельзя. Впрочем, меня он тоже сторонился. Иногда, в вылете улицы я его видел. Он тоже меня видел и сразу же сворачивал в другую сторону. В конце концов, уже под самое утро, он ко мне подошел. Сказал, что я был прав. Что все нормалек, и что все понятно. Все потому, что он был ужранный и не знал, чего говорит. Утром ехала маршрутка на Ивано-Франковск. Мы уселись в нее и сразу же заснули. Все Карпаты продрыхли, никаких пейзажей не видели. Водитель не мог нас добудиться.
Во Франковске нам встретилась туристическая группа поляков, возвращавшихся после того, как хорошенько полазили по горам. На них были горные ботинки и толстые носки. И громадные фотоаппараты. И кучи снимков на карточках памяти, которые обязательно хотели нам показать. Ребята были сбиты в единую кучу и сплетены теми своими карпатскими историями. Все время они вспоминали какую-нибудь из них и громко ее переживали. Общались они, в принципе, на своем языке, на внутреннем коде. Я совершенно не мог врубиться, на кой ляд мы с Михалом им вообще нужны, но отпускать нас они не желали. Мне казалось, что перед нами они разыгрывают какое-то представление, что они актеры, а мы — зрители, и что мы просто обязаны глядеть на них и восхищаться. Туристы забрали нас в какую-то пивную в обновленном (покрашенном толстенным слоем краски) центре, где все мы ели солянку и вареники. Я не спал в постели уже два дня и просто валился с ног. В конце концов, в самой средине показа фоток на макинтоше, который один из них по какой-то причине затащил, курва, в те горы, я поднялся с места, попрощался, забрал Михала, и мы отправились в гостиницу.
Похоже, выглядели мы как тридцать три несчастья, поскольку тетка-администраторша была для нас словно родная мать. Она дала нам двойной номер с видом на город. Мы сразу же задрыхли. Разбудила меня боль и странные вспышки в голове. Михал стоял надо мной и обкладывал ударами по всему телу: по лицу, по рукам. Я съежился в кровати, а он, уже одетый, в полной готовности, с рюкзаком за спиной, бросил в мой адрес парочку оскорблений и выбежал из номера. Я же начал смеяться. Еще я услышал, как он в коридоре вопит «курва мать!» и сверзается с лестницы. Равновесия ему удержать ене удалось. Я оттер кровь с губы и попытался заснуть. Не смог. Тогда я оделся, натянул рюкзак и спустился вниз. Было около шести вечера. Оказалось, что Михал в администрации честно заплатил свою половину счета. Порядочный парень. На вокзале я снова его увидел. Он садился в ту же электричку, что и я. До Львова. Хлопец делал вид, будто бы меня не видит. Он ехал в другом вагоне и читал книжку Гуго Бадера[33].
Под кладбищем на Лычакове[34] стояли белые автобусы с польскими номерными знаками.
Номера краковские, вроцлавские, катовицкие, любельские, варшавские. Эти автобусы для меня ассоциировались с громадными, белыми личинками, оккупировавшими эту улицу-развалюху. Они выглядели, словно бы выползли из щелей, из трещин в асфальте и теперь, эти толстенные личинки развалились, тяжело и тупо заняв все свободное место.
Разрушенный мемориал «орлят» (фото 1997 г.)
Мемориал «орлят» сейчас
Из личинок выдавливалась цветастая толпа. В сандалиях, в коротких штанах с накладными карманами сбоку, с фотоаппаратами. Сразу же подходили украинские дети. «Дый, пан, дый, пан, злоты, польски злоты». А эти, из автобусов, просто кормились этим «дый, пан». Теперь они чувствовали себя великими господами. Большинство, наверняка, впервые в жизни. Раз давали, раз — нет: показывая господский каприз. Они надувались этим господским капризом, один говорил: дам, пускай, бедняжки, мороженое купят, наверняка ведь и не знают, что оно такое; а другой говорил: а не дам, потом еще и спасибо скажут, что не дал, что к нищенству не приучил. Нищенством ни до чего не дойдешь, удочка нужна, а не рыба.
Но тут же кто-нибудь из пацанов выдавал старый номер: «дый, пан, дый, пан, я — поляк, поляк, папа-мама — поляки, украинцы — лохи», и кормежка польских экскурсий тут же прекращалась, словно кто косой срезал.
— Это же польский ребенок, польский ребенок! — сказала трубным, но сдавленным от волнения голосом какая-то женщина с грудью вперед, с большим номером бюста и таким же размером носа, и еще с явной склонностью к доминированию. Она говорила это тем же образом, как в голливудских фильмах герои в сложных ситуациях заявляют всему миру: «I'm an American citizen!».
— Это польский ребенок! Скажи, детка, где твоя мама? — уже вытаскивала она из сумки портмоне.