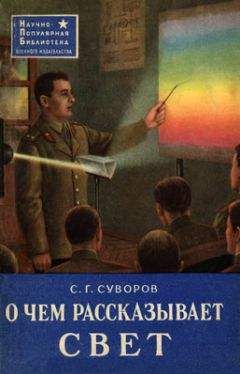Эта приязнь Толстого выразилась, между прочим, и при наших, сравнительно редких последующих свиданиях, и в многочисленных письмах, с которыми он ко мне обращался впоследствии, очевидно, видя во мне не только "судейского чиновника". Ниже я расскажу и содержание этих писем, во многом рисующих Толстого. Теперь же скажу о наших встречах и свиданиях.
После 1887 года каждый раз, проезжая через Москву, я заходил ко Льву Николаевичу и проводил вечер в его семействе. Он был - как всегда интересен и глубоко содержателен, много говорил об искусстве, но нам почти не удавалось быть наедине... Только раз, в 1882 году, на пасхе, провожая меня, он в передней задержал мою руку в своей и сказал мне: "А мне давно хочется вас спросить: боитесь ли вы смерти?" - и ответил теплым рукопожатием на мой отрицательный ответ. Этот вопрос возникал у нас с ним несколько раз. Так, в 1895 году, он писал мне: "Утешаю себя мыслью, что доктора всегда врут и что ваше нездоровье не так опасно, как вы думаете. Впрочем, думаю и от всей души желаю вам этого, если у вас его нет, веры в жизнь вечную и потому бесстрашия перед смертью, уничтожающего главное жало всякой болезни". Гораздо позднее, через одиннадцать лет, он писал мне: "О себе могу сказать, что чем ближе к смерти, тем мне все лучше и лучше. Желаю вам того же. Любящий вас Л. Т." В том же 1892 году, осенью, в разговоре о холерных беспорядках, которыми тогда омрачена была русская жизнь, он объяснял их - в тех случаях, когда они направлялись на принятые против холеры меры, - инстинктивным отвращением народа к малоДушным опасениям в ожидании смертельной болезни.
Во время этих посещений я заставал женскую часть семьи Льва Николаевича обыкновенно в полном сборе. Каждал из дочерей Льва Николаевича представляла из себя особую индивидуальность, оставляющую впечатление самостоятельного развития, не стесненного предвзятыми взглядами светского воспитания. В общем - они походили наружностью на отца, но типические черты последнего и его строгий взгляд смягчались у них чистой прелестью той кроткой женственности, которая присуща настоящей русской женщине. Постоянная и по временам тревожная забота о муже не мешала, однако, проявлениям радушия графини Софьи Андреевны. Дом в Хамовниках был полон, быть может, слишком полон, - домочадцами и посетителями, и застать Льва Николаевича одного, кроме тех часов, когда он запирался для работы, было очень трудно. А в другое время молодая жизнь нередко мешала своим бурным потоком спокойной беседе в ним. Иногда, когда мы сидели вдвоем или втроем с моим старым слушателем по училищу правоведения М. А. Стаховичем, в соседних комнатах раздавались взрывы неудержимого молодого веселья или звуки балалаек, и по временам через гостиную мчалась, как вихрь, толпа юнцов и юниц.
Поэтому мои воспоминания об этих встречах довольно отрывочны, но помнится, что в одно из этих посещений мне рассказывали у Толстых о проживавшей на покое в Ясной Поляне престарелой горничной бабушки Льва Николаевича.
Высокая, сухая и прямая старуха, строптивая, решительная и независимая, эта Агафья Михайловна (в молодости Глаша) представляла своеобразный и ныне исчезнувший тип. Верная до самозабвения своим господам, она знала только две веры и две службы: в бога и богу, в них и им.
Чрез это преломлялись все ее житейские отношения. "Вот, батюшка, какое у меня горе, - рассказывала она, - церковь у нас далеко, и церковных свеч купить негде, так что иногда и к образу поставить нечего. Раз приходит ко мне управляющий да и говорит: "Агафья Михайловна! Ведь какая у нас беда: молодого барина Сергея Львовича собаки убежали на село. Пожалуй, чью-нибудь овцу разорвут, да коли и не разорвут, все равно Лев Николаевич прикажет заплатить, что с него эти разбойники ни спросят. Одно разорение! Послали ловить на село, да где тут! Разве сами прибегут". Ушел он, а я и думаю: поставлю свечку Николеугоднику! Пошла в комод. Глядь, а свечки-то у меня нет!
Последнюю за полчаса поставила ему же, чтоб барышпин брат Берс экзамен в правоведении выдержал. Как тут быть?!
Я стала перед образом, прекрестилась да и говорю: "Батюшка! Батюшка, угодничек божий! Это что за молодого барина поставлена свечка - так это потом будет, теперь это за то, чтоб собаки вернулись и крестьянских овец не рвали". Она проводила время в вязании носков, любила и умела бывать сиделкой при больных и со страстною нежностью относилась к животным. В последние годы жизни она стала путать время. Тогда Лев Николаевич подарил ей простые стенные тульские часы с маятником. Она была им чрезвычайно рада, но дня через три принесла назад. "Нет, батюшка, возьми их обратно, сказала она. - Я человек старый, - как лягу, так думаю о божественном да о свете господнем, а не то, чтобы все о себе, да только о себе. А они тут, проклятые, как нарочно над головой знай себе все одно: "что ты?! кто ты?!
что ты?! кто ты?! что ты?! кто ты?!" Ну их совсем!"
Мы виделись затем в 1898 году, причем мне пришлось иметь спор с Львом Николаевичем по поводу Федора Петровича Гааза, которого он упрекал в том, что он не отряс прах с ног своих от тюремного дела, а продолжал быть старшим тюремным врачом. В конце концов, однако, он согласился со мною в оценке нравственной личности святого доктора.
В это время он писал свое сочинение об искусстве и ходил, между прочим, в театр присутствовать при репетиции.
С непередаваемым юмором рассказывал он свои впечатления и описывал, как хористы поют какую-то чувствительную бессмыслицу, а ближайший руководитель уже вовсе не сентиментально на них покрикивает. В день отъезда я заехал к нему проститься, но слуга сказал мне, что Лев Николаевич уехал кататься на велосипеде и вернется лишь часа через два. Я не мог ожидать и думал, что в этот раз его больше не увижу. Но перед самым моим отъездом из гостиницы "Континенталь", на Театральной площади, к крыльцу подкатил всадник, и это оказался Толстой, которому уже было семьдесят лет.
Мы виделись, впрочем, еще перед этим в 1897 году в Петербурге, куда Толстой приезжал проститься с Чертковым, которого в то время постыдной религиозной нетерпимости высылали за границу. Часов в одиннадцать вечера, вернувшись домой из какого-то заседания, я сел за работу, развлекаемый долетавшими из соседней квартиры, - где жило семейство, занимавшееся торговлею под фирмою "парфюмерия Росс", - звуками музыки, командными словами танцев и топотом ног. Там справляли нечто вроде нашего старинного девичника, называемого у немцев "Polteabend". Моя старая прислуга сказала мне, что меня спрашивает какой-то мужик. На мой вопрос, кто он такой и что ему надо так поздно, она вернулась со справкой, что его зовут Лев Николаевич. С нежным уважением провел я "мужика" в кабинет, и мы пробеседовали целый час, причем он поражал меня своим возвышенным и всепрощающим отношением к тому, что было сделано с Чертковым. Ни слова упрека, ни малейшего выражения негодования не сорвалось с его уст. Он произвел на меня впечатление одного из тех первых христиан, которые умели смотреть бестрепетно в глаза мучительной смерти и кротостью победили мир. Я не обратил внимания, что музыка у соседей затихла, но когда Толстой стал уходить и я вышел его проводить на лестницу, то мы увидели, что на ней в ожидании столпились гости "парфюмерии Росс" - декольтированные барышни и молодые люди во фраках. Толстой нахмурился, надвинул на самые глаза шапку и почти бегом побежал вниз. Оказалось, что служанка, увидев радостную почтительность, с которою я принял неизвестного мужика, усомнилась в его подлинности, стала из-за дверей вглядываться в его фигуру и вдруг была поражена сходством пришедшего с большим фотографическим портретом, подаренным мне Репиным.
Она догадалась, в чем дело, торжественно провозгласила об этом в кухне, и - "пошла писать губерния"...
В этот же его приезд в Петербург одна моя знакомая девушка ехала с даваемого ею урока на службу по "конке".
В вагон вошел одетый по-простонародному старик, на которого она не обратила никакого внимания, и сел против нее.
Она читала дорогою купленную ею книжку о докторе Гаазе.
"А вы знаете автора этой книги?" - вдруг спросил ее старик, рассмотрев обложку. И на ее утвердительный ответ он просил ее передать мне поклон. Только тут, вглядевшись в него, она поняла, с кем имеет дело. "Мне захотелось, - рассказывала она, - броситься тут же в вагоне перед ним на колени, и я невольно воскликнула: "Вы, вы - Лев Николаевич?!" - так что все обратили на нас внимание. Толстой утвердительно наклонил голову, подал ей руку и поспешно вышел из вагона.
Неотложные занятия, частое нездоровье и нередкие тревоги личной жизни лишали меня, несмотря на горячее желание, возможности посещать Толстого так часто, как бы я хотел. А один раз в последние годы, когда я совсем собрался ехать в Ясную Поляну, пришло письмо от графини Софьи Андреевны о том, что домашний пожар должен вызвать отсрочку этой поездки. Поэтому лишь в 1904 году, на пасхе, я снова посетил и, быть может, уже в последний раз Ясную Поляну.