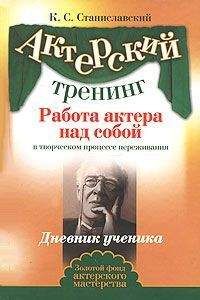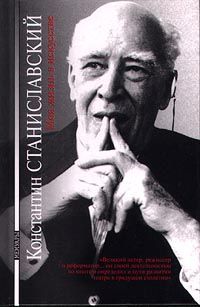О такой игре не скажешь, что она хороша. Не скажешь, зачем это так, а это не так. Оно так, потому что оно есть, и другого быть не может. Критикуют ли гром и молнию, морскую бурю, шквал и шторм, рассвет и заход солнца? 9
* * *
Мы познали кое-что из того, что и как умеет делать и творить природа. Это очень много и ценно. Но мы не познали и никогда не сумеем творить за нее или как она это умеет делать сама.
Но существуют мнения, что природа часто творит плохо, что наша грошовая актерская техника делает это лучше, с большим вкусом. Допустим, что с большим вкусом, но не с большей правдой. Есть моменты в творчестве, в которых для некоторых эстетов вкус важнее правды. Но я задаю такой вопрос: а в минуту потрясения тысячной толпы, когда все заживает одним потрясением несмотря на некрасивость, почти уродство некоторых великих артистов и артисток, разве дело во вкусе, в сознании, в технике или в какой-то силе, сидящей в гении, которой он сам, наподобие Мочалова, не владеет? И тут находят увертку и говорят: «Да, но в эти моменты урод становится красавцем». Конечно, совершенно верно. Так пусть же он делает себя почаще красавцем, по собственному произволу, без помощи той неведомой силы, которая его красит. Но этого всезнающие [эстеты] не умеют делать, не умеют даже признаться в своем неведении, но продолжают восхвалять грошовую актерскую технику и штамп, якобы исправляющие самую природу.
Я считаю таких людей либо маниаками, либо тупицами, либо самоуверенными невеждами, которые неспособны даже сознаться в своем неведении.
Величайшая мудрость сознать свое неведение.
Я дошел до этой мудрости и признаюсь, что в области [интуиции] и подсознания, которые не более как физиологического происхождения, все то, о чем мне говорят, меня не сдвигает с места. Я ничего не знаю кроме одного, что эти тайны известны художнице-природе. Вот потому-то ей я и пою дифирамбы. Вот почему я посвятил свой труд и работу почти исключительно изучению творческой природы не для того, чтоб творить за нее, а для того только, чтоб найти к ней косвенные окольные пути, то, что мы теперь называем «манками». Я нашел их мало. Знаю, что их гораздо больше, что наиболее важные не скоро откроют. Тем не менее кое-что я приобрел в моей долгой работе и этим немногим я пытаюсь поделиться с вами. Но если б я не признал своего бессилия и недостижимость величия творческой природы, я бы блуждал, как слепец, по тупикам, принимая их за необъятные открывающиеся мне горизонты. Нет, я предпочитаю стоять на холме и оттуда озираться на необъятные просторы, пытаясь, точно на аэроплане, взлететь на несколько десятков верст в необозримое и непонятное нашему сознанию пространство, которое мой ум не может даже мысленно, в воображении охватить, — как царь [. который]
Мог с вышины с весельем озирать И дол, покрытый белыми шатрами, И море, где бежали корабли 10.
I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ
1. [О МУЗЫКАЛЬНОСТИ РЕЧИ]
…………… 19.. г.
Я был сегодня на «звуках» 1 и в перерывах между ними слушал разговор артистов с Аркадием Николаевичем в закулисном фойе.
Торцов делал свои замечания одному из артистов по поводу исполнения его роли, одну из сцен которой он прослушал, стоя за кулисами.
К сожалению, я подошел в середине его объяснения и пропустил начало.
Вот что говорил Аркадий Николаевич.
— Декламируя, я старался говорить как можно проще, без ложного пафоса, без фальшивой напевности, без утрированного скандирования стихов, идя по внутреннему смыслу произведения, по его существу. Это не было мещанской опрощенностью, а оставалось красивой речью. Этому помогало то, что слоги фразы звучали, пели, и это придавало речи благородство и музыкальность.
Когда я перенес на сцену такую манеру говорить, мои товарищи артисты были удивлены происшедшей переменой в голосе, в дикции и новыми приемами выражать чувства и мысли. Но оказалось, что я еще не все постиг. Надо уметь не только самому наслаждаться своей речью, но и дать возможность присутствующим зрителям уловить, понять и усвоить то, что заслуживает внимания. Надо незаметно вложить слова и интонацию в уши слушающих. При этом легко попасть на ложный путь и начать показывать зрителям свой голос, кокетничать им, хвастаться манерой говорить.
Но этого отнюдь не следует делать, а надо лишь усвоить известные навыки, помогающие в большом помещении делать свою речь понятной для всех, легко воспринимаемой на расстоянии. Для этого в иных местах роли приходится говорить членораздельнее, в других — задержать или приостановить речь, чтоб дать время слушающим хорошо усвоить сказанное, или полюбоваться красивым, красочным выражением, или хорошо вникнуть в глубокую мысль, или оценить меткие примеры и сравнения, верную и красочную интонацию.
Для всего этого артисту надо хорошо знать слова, фразы, мысли, которые следует выдвинуть на первый план или, напротив, отодвинуть назад.
Такой навык надо довести в себе до механической приученности, до второй натуры.
Я познал то, что на нашем языке называется ч_у_в_с_т_в_о_в_а_т_ь с_л_о_в_о.
Речь — музыка. Текст роли и пьесы — мелодия, опера или симфония. Произношение на сцене — искусство не менее трудное, чем пение, требующее большой подготовки и техники, доходящей до виртуозности. Когда [актер с] хорошо упражненным голосом, обладающий виртуозной техникой произношения, звучно говорит свою роль на сцене, — он захватывает меня своим мастерством. Когда он ритмичен и помимо воли сам увлекается ритмом и фонетикой своей речи, — он волнует меня. Когда артист проникает в душу букв, слов, фраз, мыслей, — он ведет меня за собой в глубокие тайники произведения поэта и своей собственной души. Когда он ярко окрашивает звуком и очерчивает интонацией то, чем живет внутри, он заставляет меня видеть внутренним взором те образы и картины, о которых повествуют слова речи и которые создает его творческое воображение.
Когда актер, владеющий своими движениями, дополняет ими то, что говорят слова и голос, мне кажется, что я слышу созвучный прекрасному пению аккомпанемент. Хороший мужественный голос, вступающий со своей репликой на сцене, мне кажется виолончелью или гобоем. Чистый и высокий женский голос, отвечающий на реплику, заставляет меня вспоминать о скрипке или о флейте. А низкий грудной звук [голоса] драматической артистки напоминает мне вступление альта или viola d'amore 2. Густой бас благородного отца звучит фаготом, а голос злодея — тромбоном, который трещит от своей силы и внутри его клокочут, точно от злости, накопившиеся слюни.
Как это артисты не чувствуют целого оркестра в человеческой речи? Прислушайтесь внимательно.
Вот затянул свою короткую, но типичную ноту гнусавый кларнет:
В…в…в…в!
Едва определилась его характерная звуковая краска, ворвалась, точно через распахнувшуюся дверь, целая группа певучих скрипичных нот:
О…о…о…о!
Это вступление может звучать в унисон с кларнетом или в терцию, в кварту, в квинту, или в октаву. Выше или ниже первой ноты. При каждом интервале получаются различные созвучия. Они рождают разные настроения, они каждый раз по-новому откликаются в душе.
Два звука, слившись воедино, поют уже дуэт:
B…o…o…!
Но вот затрещал барабан:
Р…р…р…!
Вступив, он слился с прежними звуками. Теперь вместо дуэта получилось трио. Его звуки перемешались между собой. Они приобрели суровость:
В о о о р…р…р!
Точно укоризненно звучит оркестр. Но вступили вторые скрипки, и смягчилось резкое созвучие:
В о р о о о о…
поет теперь оркестр.
Когда же вдруг затрубила труба:
Т…т…т…
характер созвучия опять резко изменился и стал жестче.
Ворот…-
гудит оркестр.
И…и…и…-
резко вступил пистон.
Теперь оркестр точно жалобно завопил:
Вороти…и…и…
Тут засвистал какой-то инструмент и, удаляясь все дальше и дальше, замер и оборвался в пространстве:
«Воротись!..» -
жалобно стонал оркестр.
Но это только начало грустной арии. Музыкальная фраза не кончена. Оркестр продолжает петь дальше при постепенном вступлении все новых и новых инструментов, при образовании все нового созвучия. Скоро фраза окончательно сложилась:
«Я без тебя не могу жить!»
Как разно и каждый раз по-новому можно пропеть эту фразу! Сколько в ней разнообразных значений, как много различных настроений можно извлечь из нее! Попробуйте по-разному расставить паузы и ударения, и вы получите все новые и новые значения. Короткие паузы вместе с ударением четко выделяют главное слово, выносят его точно на подносе и подают отдельно от других. Беззвучные, более долгие остановки дают возможность наполнять их новым внутренним содержанием. Этому помогают движение, мимика, интонация. От таких изменений создаются все новые и новые настроения, рождается новое содержание целой фразы.