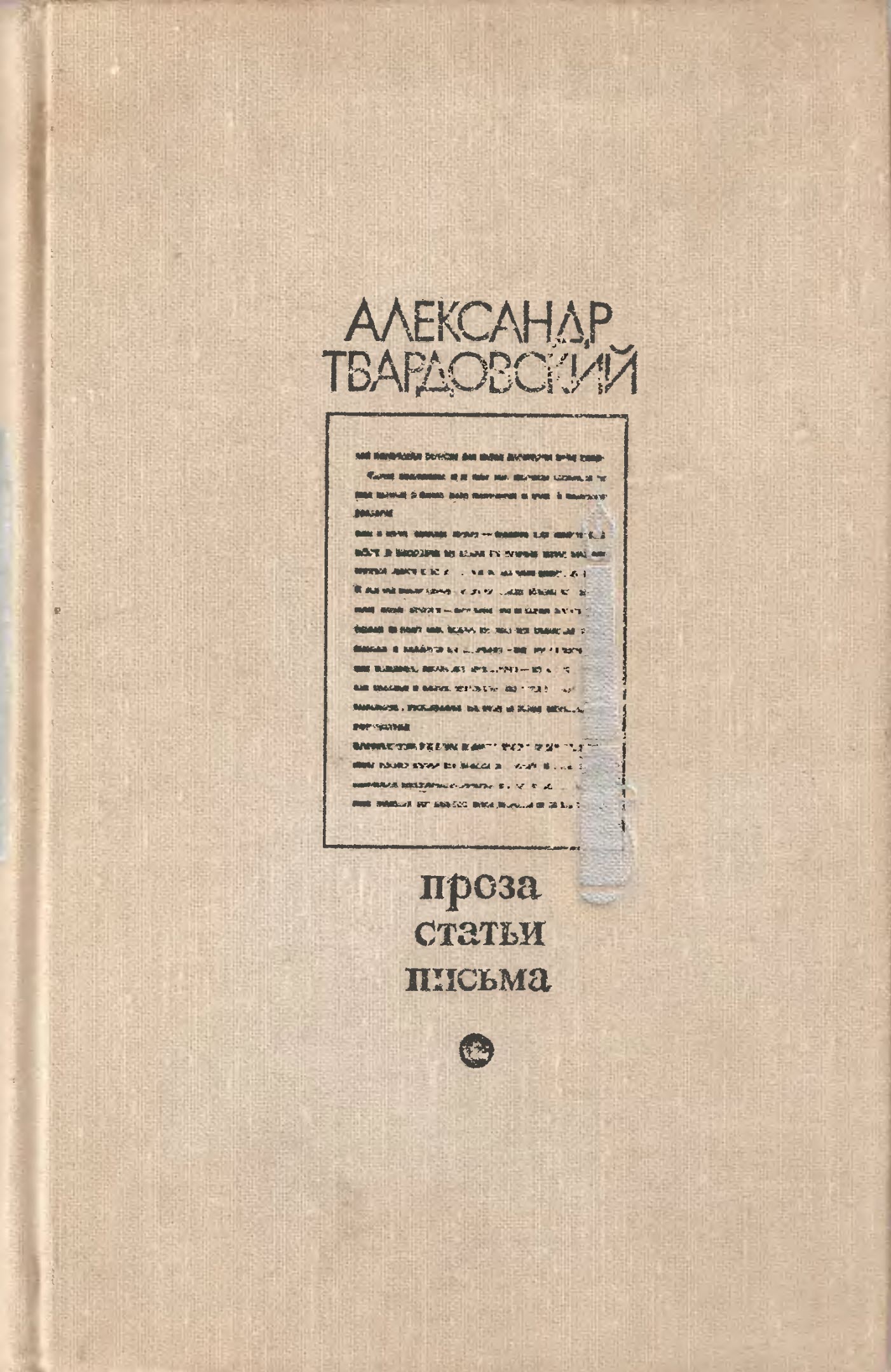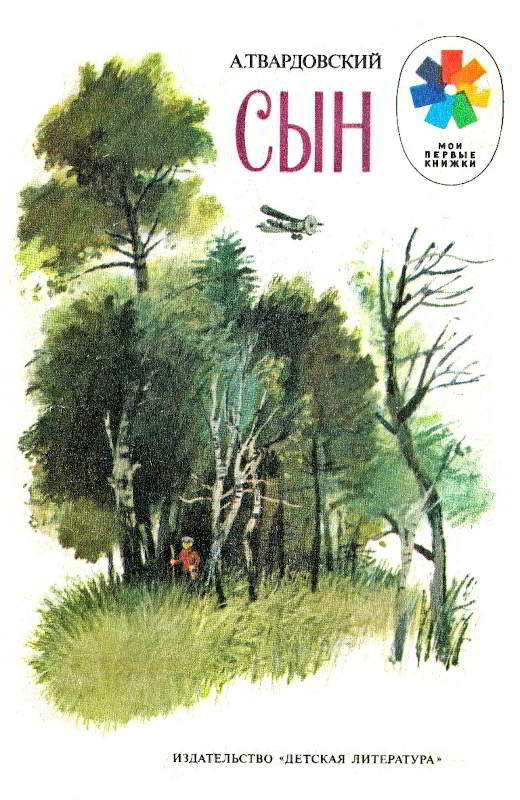двое, навалились на него, а он, черт, гранату под себя. Ни их, ни его не осталось. Как это считать — храбрый он тоже, что ли, немец-то? Видать, бывает. Я зимой на одного наступил. Лежит, у него ползадницы вырвано, ступня прочь, в голову, в руку ранен, а еще хрюкает, хрипит: «Вася, Вася…» — воды значит. А тут наши: «О, сволочь! Давай, говорят, его приколем». Я говорю: «Давайте». А тут сержант какой-то. «Я вам дам, говорит, колоть! Тащите до места». Дела нет, что он уже кончается… Сколько у солдата начальников, как поглядишь снизу вверх! И все приказывают, и им каждому кто-нибудь приказывает. Один он никому уже ничего приказать не может. Делай. Но это хорошо. Иначе баловства будет много.
Ночью, когда я уже засыпал, он вдруг заговорил, как бы в оправдание своего решения уйти на боевую должность:
— Ничего страшного нет. Я сам одну нашу танку спас. К ней никто не мог подобраться. А я, не будь дурак, запряг лошадь, бочку с бензином — на сани, три ящика с патронами да ночью к ней и подъехал. В целик по снегу подъехал, и скрипу не слышно было. Еще танкист открывать мне не хотел. Сгрезилось ему, что это немцы стучат… Ничего нет страшного, если с умом делать.
Край неба нежной, детской голубизны над линией горизонта — фронта.
Опушка обжитого в долгой обороне леса. Дом отдыха. Все в земле, отчасти на земле, но, по крайней мере, под ветвями густого, отяжеленного снегом леса.
И здесь все, что должно быть в курортном заведении: ванна, душ, чистое постельное белье, теплая уборная. Но все иное, чем в бывалой, мирной жизни, на всем признаки фронта, сурового «временного» времени и необычной обстановки.
Дрова жгут, совершенно не думая о том, сколько их уходит. Стены и потолки полуподземпых «палат» из нс-скобленых еловых бревен с накипевшей от печной жары смолой на сучках и затесах. Двери, если они не из теса, который просыхал уже в качестве дверей, то это принадлежность какой-нибудь старой избы, которой наверняка уже нет, и нет тех людей, что в ней жили. Вообще остатки наземной жизни, того, что было на месте нынешних пепелищ, нынешней безлюдной и неприютной пустыни, ушли в землю — в блиндажи, землянки. Вдруг там видишь какой-нибудь подсвечник, письменный прибор, старинную лампу с абажуром.
Здесь так долго, стоят в обороне, что уже завели собак, кошек, кур и прочую домашнюю живность. Водка подается не как прежде, в обындевелых бутылках, из-под стола, а домашняя, в графинчике, настоянная на мандариновых корочках.
То, что характерно в обстановке быта начальства, заметно и в быту вообще всей дивизии. Котлы кухонь на-прочно вмазаны, землянки обшиты досками либо обставлены, — кажется, что так и сидеть до победного конца.
В этом «сидении» люди живут уже больше воспоминаниями о боевых действиях, чем нынешним днем.
И эти действия в собственном представлении людей становятся все значительнее, все ярче. Тишина расслабила нервы. Появление неприятельского самолета-разведчика прерывает разговор о блиндаже.
— Адъютант, давай узнай, чего он там летает. Ох, засек он нас, должно быть, Николай Трофимыч, а?
— Молчите, Василий Федорович! Я и то думаю: давно засек. Того и жди, что даст жизни. А что у нас сегодня?
— Драники со сметаной, Николай Трофимыч, ваши любимые.
— О-о!
Козырек, из-под которого глядит за немцами наблюдатель, устроен в нежилом блиндаже, полуобрушенном прямым попаданием снаряда. Накат не разворочен полностью, как бы прорублен огромным копытом — цельные бревна отхвачены полукругом. Наблюдатель примостился как бы на чердаке бывшего блиндажа. Немцы в ста двадцати — ста пятидесяти метрах. Из-под козырька видно: снежные валы, как у нас, дымки снега из-за валов вспархивают — чистят траншеи…
За спиной наблюдателя в ста метрах населенный блиндаж — боевое охранение.
— Так и сидите?
— Так и сидим. Снег сторожим.
Все это говорится как бы в насмешку над самим собой и даже в осуждение. Такова действительность долгой молчаливой обороны. Начнись что-нибудь с любой стороны — сразу иное дело: война.
* * *
Командир взвода противотанковых ружей, лейтенант, красавец, щеголь и храбрец, в валенках, голенища которых вывернуты каким-то особенно лихим манером, в темно-синих «повседневных» брюках поверх ватных штанов.
Во взводе порядок образцовый. Бронебойщики точно связаны какой-то порукой за честь своего командира. При появлении командира дивизии ни суеты, ни растерянности — боевой трепет, лихость рапортов, краткость и четкость ответов на вопросы. Угрожаемые направления, ориентиры для стрельбы, расчет расстояний и т. д. — все назубок. Полковник как бы даже недоволен, что не к чему придраться. Строжайше, наставительно направляет указательный палец на снег, источенный ржавыми щелями, возле землянки командира взвода:
— Этого не делать.
— Есть не делать, товарищ полковник. — А в умных и быстрых глазах красавца лейтенанта все, кроме полковника, а может быть, и сам полковник, могли видеть: «Ничего ты мне не сделаешь, потому что ценишь меня и знаешь, как я воюю, и уверен во мне, и любишь меня. А что я помочился в снег возле землянки, так нельзя же это принимать всерьез за большую провинность. В крайнем же случае, если ты и вправду думаешь придавать этому такое значение, я могу отойти и чуть подальше, меня не убудет».
* * *
Повар тащил командиру полка обед на наблюдательный пункт, куда уже было очень затруднительно добираться из-за огня. Принес, а там «окоп, как люлька, ходит». Вскоре и связь прекратилась, и, может быть, немцы обошли с флангов, и огонь такой плотности, что надеяться не на что. Только ждать того удара, которого уже не услышишь. Какой там обед!
Идут минуты, часы, а повар, улучив минутку между разрывами, повторяет:
— Покушайте, пожалуйста. Ну, хоть компоту выпейте…
За Вязьмой — подорванные мосты, мостики, виадуки, котлованы. Глыбы мерзлой земли, вывороченные силон взрыва, но не раздробленные, напоминают глыбы горных пород где-нибудь на Крымском побережье. По сторонам дороги обтаявшие, точно вымытые, отчетливо черные или цветные кузова машин, ржавые остовы, «рамы». Они провели здесь две зимы — памятники осени 1941 года. Объезды, попытки вырваться из пробок в открытое поле, рассредоточение от бомбежек — все это раскидало машины в жутком и причудливом беспорядке. Говорят, из них многие «почти на ходу». Родилась даже легенда о шофере автобата, оставленном своим командиром, где-то здесь, в лесу, с полсотней машин и сохранившем их до прихода наших войск. «Машины в порядке. А еще доложу, что я здесь женился, так что жена мне помогала