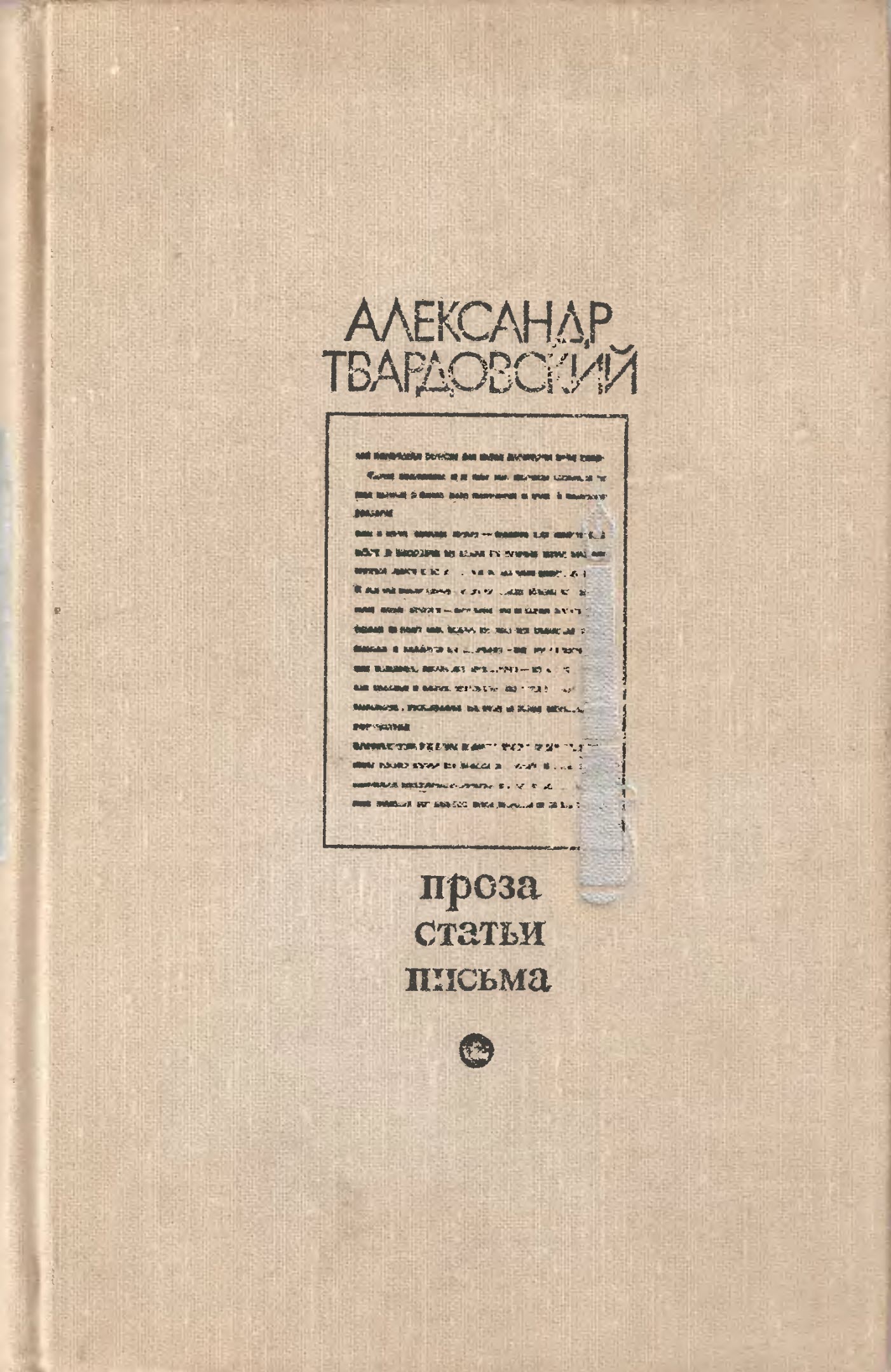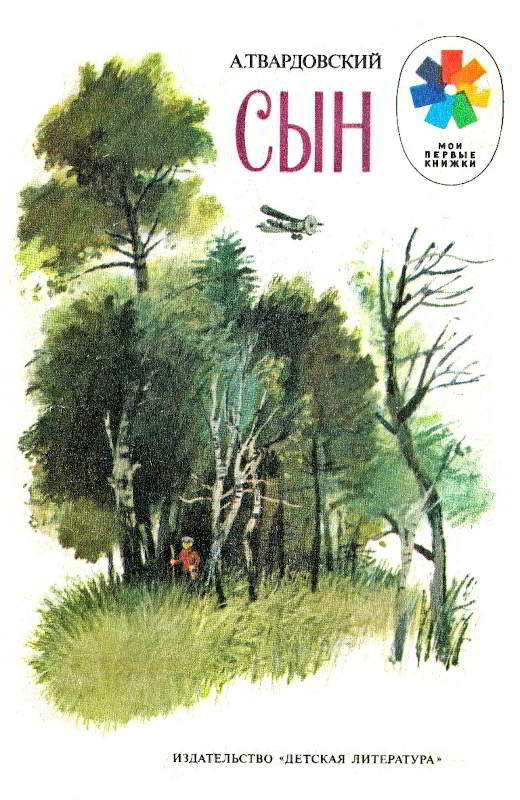по уходу». И уж кем-то добавлено к анекдоту, что, покамест шофер докладывал по форме о сохранности автоколонны, наши автобатчики увели у него три машины.
* * *
Жители деревень, проведшие здесь два этих года, привыкли к мысли о том, что хата будет спалена, что их могут угнать в Германию, убить. И житейски готовились ко всему, заботились о жизни, не своей — так своих близких, не сегодняшней — так завтрашней, возможной, предположительной.
К пожару, например, готовились так: не вызывая у немцев особых подозрений, вынимали и выносили из избы дощатые или тесовые перегородки, «забывали» осенью вставить рамы-вторички, вытаскивали из стен, в которых жили, какой-нибудь гвоздь, крючок и т. п. И все это прятали, относя, например, доски куда-нибудь к погребу, как будто для порядка. И закапывали, закапывали, вверяли родной земле хлеб, пожитки — в подполье, в хлеву, в лесу. Это на случай оставления родных мест, и в надежде на возвращение в конце концов, и с заботой о том, чтобы хоть что-нибудь найти здесь для обзаведения домом, для жизни сначала.
На случай угона в Германию или на работы, в лагеря заключения, в неизвестные места сушили сухари, готовили одежду, чтоб и в глаза не бросалась, не соблазняла конвойного и чтоб все-таки была попрочнее в носке, поспособнее в пешем пути невольника.
Но было и другое.
— Давно, отец, строил эту хату?
— По осени, — отвечает нарочито расслабленным голосом, через кашель, с усилием. — Старую партизаны сожгли. Тут бои были. Ну, так потом дали мне курятничек колхозный.
— Кто дал?
— А кто? Кто тут за власть был. Дали курятничек — из него и приладил хату.
И прячет глаза, чувствует, что тебе все ясно. Строить новую хату мог тот, кто жить собирался, не рассчитывая на наш приход и изгнание немцев.
С младенческих лет осталось в душе чарующее и таинственное впечатление от стен родной хаты, оклеенных какими-либо картинками, газетами, оберточной бумагой. Помнится, например, какая-то рекламная картинка, как я это теперь могу назвать: женщина в длинной юбке с хвостом, держащая в руках какую-то большую букву — кажется, это был крендель. У нас, детей, это называлось: «Барыня букву съела». Потом шли годы и годы и ложились на стены той же избы другими газетными листами, книжными страницами, плакатами. По этим слоям на стенах иного дома можно было бы писать историю всех этих лет — от картинок 1915 года: русский солдат в шапке тех времен управляется с тремя немцами, — до фотоснимков нынешней войны. Занятно, странно и страшно видеть стены русской избы на Смоленщине в обоях из немецких газет, страниц иллюстрированных журналов, плакатов. Каким сложным впечатлениям подвержена душа ребенка, глядящего на эти картинки!
Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных вещей на свете.
Мальчик трех лет, по-немецки благодарящий нашего офицера за хлеб: «Дайке шён».
Мальчик лет двенадцати, в больших, широких, как ведра, немецких сапогах, подбитых гвоздями-шурупами, с блестящими круглыми шляпками.
Мальчик, везущий на детских санках мать, тяжело раненную, когда шел бой за их деревню.
Девочка с ребенком на руках и с двумя меньшими обапол себя, у трупа матери. Меньшие плачут. Маленький на руках плачет, видя, что все плачут.
— Нельзя ли было гарнизонам блокированных деревень предлагать сдаваться?
— Можно, почему ж.
— Но трудно, что ли, по техническим условиям?
— А что трудного! Возьми белую тряпку на палку и иди с ординарцем — всякий командир взвода мог.
— Ну, и ходили?
— Ходили, да некогда было ходить. Бой.
* * *
Старший лейтенант Костиков Митрофан Петрович, из донских казаков, рабочий, с очень мужественным лицом, когда не улыбается. А улыбка застенчивая, трогательная. Из любящих воевать. Ему бы еще коня, был бы вполне счастлив. Рассказывают, как двое суток лежал в снегу при штурме деревушки Старые Мельницы.
Подползает капитан:
— Замерз?
Неловко согласиться, маленький я, что ли? Однако говорю откровенно:
— Замерз.
— Связной, отдай ему все, что есть во фляге.
Было там граммов семьдесят. Выпил, закусил сухарем со снегом и еще лежал с полсуток.
* * *
Утро. Весенний и чистый и легкий морозец, подсушивший улицу, подворье с вытаявшим зимним навозом, сенцом, — как на дороге. Шофер, сидя на подножке машины, завтракает. Поздоровались. Кивает головой, продолжая хлебать из котелка, на березку со скворечницей:
— Скворец прилетел, понимаете. С воробьями из-за квартиры ссорится. Думает, домой прилетел, а тут еще черт те что! Ну, однако, освободили его территорию.
И действительно, не хочется верить, что скворцы сюда прилетали и в прошлую весну и прилетели бы нынче, хоть бы и не было нас здесь.
Спас-Деменск. Одноэтажный деревянный дом на Советской улице, переименованной немцами в Гауптштрассе. В комнатах узкие нары в два яруса, с высокими дощатыми бортами, более всего похожие на гробы. Тесно, как в купе вагона.
«Здесь жила несчастная колонна, — написано на белой голландской печи, высоко вверху, на уровне второго яруса нар. — Дорогие бойцы, скорее освобождайте нас…»
Кажется, что это помещение пустует уже давно и неясные, кое-как в спешке нацарапанные записки как будто уже поистерлись от времени. Но обитательницы этой тюрьмы-казармы покинули ее только за день до вступления в город наших войск. Солома из матрацев, вытряхнутая на пол, мусор, убогие обрывки тряпья…
Здесь они жили, вернее сказать — спали положенные для отдыха часы тяжелым сном пленниц. Маленький деревянный городок на Смоленщине был для них дальней чужбиной, неметчиной, каторжным местом. Приткнутый высоко под потолком, над койкой-гробом, высохший пучок полевых цветов, собранных, может быть, украдкой по пути на работу или с работы, напоминал здесь о родных полях как о чем-то далеком, лежащем за тридевять земель. И оттого, что на самом деле эти поля лежали совсем неподалеку, было, пожалуй, еще горше.
На полу, в мусоре, я подобрал одно письмо в самодельном, непроштемпелеванном конверте. Пишет Мария Орлова к подруге, такой же пленнице, только другой колонны.
«Теперь нас гоняют на работу к самому фронту, и мы работаем совсем рядом со своими, и они, родненькие, нас видят. Как подъезжаем, так дух замирает: хоть издали посмотреть на родную сторонушку, где стоят наши герои. Только смотреть нам не позволяется… А трудно так, что пока норму выработаешь, так и в глазах потемнеет, не знаешь, как до койки дойти».
Другое письмо, подобранное там же нашими бойцами и попавшее в мои руки в политотделе дивизии:
«Дорогие бойцы и командиры Красной Армии! Это темкинские девушки пишут вам. Мы уверены, что вы освободите нас