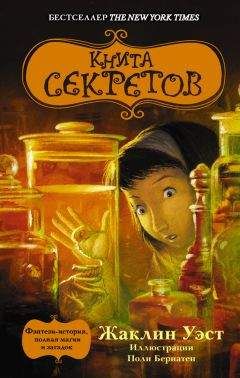тоже полна проблем, но чаще всего я ощущала это как тяжелую ношу. У меня было достаточно и своих трудностей, чтобы взваливать на себя работу по переживанию чужих. Но мне было отрадно, хотя и грустно, узнавать, что у многих, если не у большинства людей, жизнь тоже полна своих секретов, вины и стыда.
Однако с Барбарой было по-другому. Ее сострадание выглядело искренним, и она никогда не изливала мне душу часами, не жаловалась на жизнь только из эгоизма – она просто была честна со мной. Не было у меня и ощущения, что она шпионит за мной, высматривая малейшие признаки того, что я так же жестоко обращаюсь с детьми, как и мои родители, чтобы поскорее предупредить власти о том, что Эми необходимо забрать. А это был самый острый страх для меня как сразу после ее рождения, так и очень долгое время после. Барбара зародила во мне веру в то, что я хорошая мать.
Я часто думаю, что без этой неожиданной доброты от людей за пределами семьи мне было бы просто не выжить.
Я регулярно поддерживала связь с мамой по телефону, в переписке и на свиданиях, но начала гораздо больше опасаться телефонных звонков воскресным днем, звуков конверта, шлепающегося на придверный коврик, поездок в Дарем и подробных обысков, вслед за которыми меня ждали мамины рассказы. Это вызывало у меня стресс и выматывало, а все из-за ее эмоционального контроля надо мной, который я начинала ощущать, если она не звонила или долго не присылала писем. Я вообще стала довольно тревожной, волновалась, что с ней что-то произошло, или хуже того, что она отказывается от общения со мной. Еще я терпеть не могла ту неискренность, которую провоцировало в целом общение с мамой, например, мне приходилось лгать Эми о настоящей причине поездок в Дарем. С годами, когда Эми исполнилось уже десять или одиннадцать лет, она рассказала мне историю о том, как «однажды мы поехали в отпуск и катались по реке на лодке». Я не понимала, о чем она говорит, но чем больше она рассказывала подробностей, тем больше я догадывалась, что это фальшивая история об одной из наших поездок в Дарем. «Да, милая», – отвечала я ей, а внутри у меня все разрывалось из-за того, что я не могла сказать ей правду.
Да и сами визиты в тюрьму требовали очень много душевных сил: я никогда не знала, как поведет себя мама на этот раз – чувствительно и навязчиво или капризно и ребячливо. Работники тюрьмы всегда пытались подслушивать, так что разговор никогда не происходил полностью наедине. Иногда раздавался сигнал тревоги, и тогда они закрывали все тюремные помещения, а это значило, что всем посетителям нужно срочно покинуть здание и вернуться позже, чтобы продолжить свидание, а это значит – еще раз пройти все предварительные процедуры досмотра. Всякий раз, возвращаясь домой, я чувствовала себя выжатой и даже ощущала, что я вся грязная после визита в тюрьму, поэтому сразу мылась после поездки туда.
Мама пыталась обжаловать свой приговор, но, как нетрудно было догадаться, эти прошения отклонялись. Она злилась на это и злословила по поводу того, что ее несправедливо обвинили, но на свиданиях со мной этот гнев, казалось, быстро выветривался, и она возвращалась к привычным для нее рассказам о последних тюремных слухах или спрашивала, как у меня дела.
Она часто давала советы, отправляла мне разные буклеты о государственных льготах, на которые я могу претендовать, или о какой-либо другой помощи одиноким родителям. Однако, по правде, та связь, которую мы с ней поддерживали, больше была направлена на помощь ей, а не мне. В одном из писем она просила меня отправить ей альбом Ширли Бэсси This Is My Life на кассете, говорила, как ей понравилась кофточка, которую я ей прислала, а также писала: «если вдруг у тебя будут лишние десять фунтов, отправь их мне на Рождество, я смогу кое-что купить для себя».
Я могла позволить себе очень мало денег на подобные траты, поэтому покупать ей одежду или отправлять наличные мне было непросто – и я не была до конца уверена, что мама вообще понимает это, а может, ей просто было выгодно этого не замечать. Однако я знала, что сама помощь, как и поддержка, которую она получала от меня, была для нее очень важна. Она практически не общалась с моим братом Стивом, которого продолжала обвинять в том, что он занял сторону папы.
Барбара понимала, какой замкнутой жизнью я начала жить, и советовала чаще выходить в люди. Я не очень понимала, как и зачем это делать. Если я с кем-то подружусь, то как будет развиваться эта дружба? Мне придется врать о том, кто я такая, и жить в страхе от того, что люди это узнают. Либо я соберусь с силами и расскажу правду, но при этом буду ожидать неминуемого отвержения. В любом из этих случаев дружбе придет конец.
В гораздо большей степени это отражалось и на отношениях с мужчинами. Кто вообще захочет быть со мной, зная о моем прошлом? Я чувствовала, что на это мог решиться только странный и дикий человек. Как я могла открыться человеку и пойти навстречу чувствам с мужчиной, который наверняка меня отвергнет?
Тара была более спокойна насчет этого. Она всегда отличалась прямотой и открытостью, ее меньше заботило, раскроет ли кто-нибудь ее происхождение. Если люди насмехались над ней или плохо с ней обращались из-за того, из какой она семьи, то в ответ они получали от нее сравнимый по силе отпор, если не еще жестче. Она всегда в этом плане была похожа на маму. Тара довольно часто выходила гулять по вечерам, иногда возвращалась в Глостер на встречи с друзьями или на свидания. Я завидовала тому, сколько свободы дает ей ее внешний вид, ведь смешанные черты не позволяли даже и подумать, что ее фамилия Уэст.
Однако Барбара упорно продолжала говорить мне, что мне нужно стараться наладить личную жизнь, а раз я не могу решиться ходить по пабам и клубам, то посоветовала обратиться в службу знакомств. Так что в