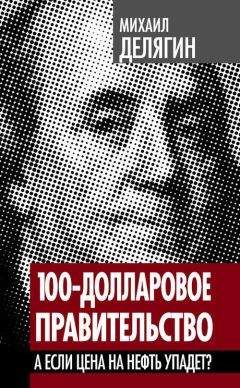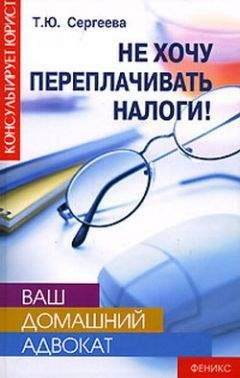А карьеру сделали, в тогдашних терминах, «демократы», – те, кто целил именно туда, куда попал.
Лучше всего это выразил умнейший и откровеннейший из либералов Кох, давным-давно сказавший о бесперспективности и безысходности России с такой чистой детской радостью, что она повергла в шок даже его коллег (http://tvoygolos.narod.ru/press/1998.11.02.htm).
Реагируя на теракт 11 сентября 2001 года, он же, отметив, что «для меня в Нью-Йорке все улочки родные», без каких-либо наводящих вопросов, по собственной воле признал: «Испытал полное бессилие и опустошение. Два года назад у нас в России взрывали дома, но тогда не было эффекта присутствия», – при том, что, если я не ошибаюсь, в августе 1999 года он в России был, а в сентябре 2001 года в США не был. И дело здесь вряд ли только в телетрансляции: дело, скорее, в самоидентификации человека, в том, где именно у него находятся «родные улочки».
Лучше всех эту позицию выразила одна «прорабша перестройки», которая на круглом столе, посвященном 11 сентября 2001 года, визжала, буквально как резаная, что любые люди, готовые сознательно отдать свои жизни за что бы то ни было, и особенно за какую бы то ни было идею, – выродки рода человеческого и должны выявляться и уничтожаться физически в превентивном порядке, чтобы не мешали нормальным людям нормально жить.
Дело было в Ленинграде (тогда и ныне Санкт-Петербург), не более чем в пяти километрах (извините, я там плохо ориентируюсь) от Пискаревского кладбища, где лежали эти самые, по ее терминологии, «выродки».
Признаюсь: даже американцы в своих войнах после Второй мировой, даже террористы, даже фашисты ближе мне, чем эта либеральная ведьма, которую я слышал своими ушами. Потому что они сражались за свой народ – или хотя бы искренне думали так, а она вполне сознательно сражалась против своего народа – за свое потребление.
Последнее слово главное для понимания отношения либералов к России.
И здесь дело совсем не в какой-то специфической ненависти к ней, – патриоты, считающие так, страдают обычной местечковой манией величия (обычно в комплекте с манией преследования).
Россия нелюбима либералами не как враг, не как противостоящая сила (увы, ну какая ж мы пока сила!), но лишь как неудобство, как гвоздь в ботинке: ее народ (тоже запрещенное после победы демократии слово, надо было писать «население»!) мешает им красиво потреблять, как плохому танцору мешают танцевать ноги партнерши, не более, – не бросается же он посреди вальса отпиливать эти ноги!
Отношение либералов к патриотизму вызвано их коммерционализованностью.
Как гениально выразил один недавно впущенный в страну коммерческий олигарх: «Я не столько патриот страны, в которой живу, сколько патриот своего капитала» (http://www.peoples.ru/undertake/finans/kiselev/).
Всем нам свойственно застывать в тяжком раздумье между севрюгой и Конституцией; при выборе же между Конституцией и куском хлеба 95 % людей не будут задумываться ни минуты, и всерьез осуждать их может только тот, кто не голодал сам.
Но именно у либералов – и именно в силу их идеологии – потребительская ориентация выражена предельно полно. И, служа своему потреблению, они автоматически, незаметно для себя самих начинают служить странам и регионам, где потреблять наиболее комфортно, – нашим объективным, стратегическим конкурентам. И, живя ради потребления, они начинают любить те места, где потреблять хорошо, комфортно, и не любить те, где потреблять плохо, неуютно.
Не любить Россию.
И это очень хорошо демонстрируют практические действия либералов, по-прежнему обслуживающих власть.
Я огрубляю осознанно, в жизни все сложней, приведу лишь один пример: потребление бывает не только материальным, но и символическим. Потребление – не только еда, жилье, курорты, автомобили; это еще и среда обитания. Крах СССР сделал нас народом диаспоры, как евреев и армян, – и сейчас в Хайфе, Гамбурге или даже Лондоне можно посидеть на кухне не хуже, чем в Москве, а учитывая, что уезжали и уезжают наиболее культурные и активные, даже и лучше.
Еще более важно то, что образование по самой своей природе включает западные стандарты культуры и представлений о цивилиованности, которые во многом не совместимы с общественной психологией, а во многом – с объективными потребностями нашего общественного развития. Это главное противоречие нашей истории, как и истории большинства аграрных или слабо развитых стран, оно неминуемо порождает отторжение интеллигенции, но лишь у либералов это отторжение достигает крайней, неправильной, вредной для страны и для них самих степени.
Это не значит, что надо бросаться вылизывать филейную часть очередному мутному царьку; это значит лишь то, что, сознавая этого царька и его банду неотъемлемой частью своей страны и своего народа, надо сознавать его не главной, а лишь наихудшей частью, подлежащей, по изящному выражению наших либералов, «реформированию».
Странно обижаться на младенца, когда он срыгивает вам в лицо или какает мимо памперса (пусть даже на любимый галстук).
Даже трудного подростка надо воспитывать, а не ненавидеть.
Отторжение от страны, естественное и неизбежное для интеллигента, у либералов достигает степени именно такой обиды и именно такой ненависти.
В результате значительная часть интеллигенции, а точнее, образованного слоя, который является единственным носителем культуры и развития как такового, оказывается потерянной для страны, так как обижается на нее слишком сильно, предъявляя ей непосильные для нее, несоразмерно завышенные стандарты своего личного потребления.
Это касается всех видов потребления – и еды, и дорог, и разговоров на кухне, – и, к сожалению, демократии тоже.
И либералы естественно воспринимают в качестве идеала и своей цели источник этих стандартов (причем во многом существующих лишь в рекламе либо для богатейшей части соответствующих обществ), – и начинают если и не прямо служить ему, то, как правило, соотносить с ним все свои действия.
Живя в России, не умея расстаться с Россией (и слава богу, несмотря на все мои личные претензии), будучи ее неотъемлемой частью.
(Ну не стоит Россия без «жидов и рыболовов», ну что тут поделать, товарищи националисты, да?)
И с этой точки зрения главным либералом страны действительно является Путин, который, по чудному выражению Митрофанова, хочет править как Сталин, а жить как в Европе.
Из более приземленных примеров такого соотнесения с Западом меня озадачил великолепный, хоть и заочный спор двух либералов (еще там был американский политолог, но он не в счет, хоть и советского происхождения) о том, можно ли ругать свою страну за границей (http://www.ej.ru/?a=note&id=7918).
Один говорит: «Нельзя, потому что в Америке это не принято».
Другой гневно отвечает: «Да вы что – в Америке есть свобода слова, а у нас нет! Значит, американцу в России нельзя, а нам в Америке можно!»
И оба с пеной у перекошенного рта в качестве главного судьи апеллируют к Америке!
Совсем, между прочим, другой стране, с совсем другими традициями и, между прочим, совсем другим уровнем бытового и политического лицемерия (ну-ка, скажите сразу, где его больше, у нас или у них? – вот вам и тест мгновенный, как на беременность).
Для меня, признаюсь, этого вопроса никогда не было. У меня один язык, я просто стараюсь говорить им правду и, по-моему, подобным же образом устроено большинство моих сограждан и тем более соотечественников. Конечно, я понимаю, кому говорю – и нашему говорю больше и жестче, но совсем не потому, что так принято или не принято в США. Просто в отличие от иностранца наш, даже будучи противником, понимает, о чем идет речь, его интересы объективно ближе к моим (у иностранца интересы всегда свои) и он может в силу понимания и близости к процессу как-то повлиять на ситуацию. В конце концов его действие никогда не будет носить характер внешнего вмешательства в мои внутренние дела.
И так захотелось написать ответ с простой мыслью: «Мужики, если уж вам так невыносимо, так омерзительно апеллировать к России, скажите: а вы хотя бы к правде апеллировать никогда не пробовали? К истине?»
Не написал – испугался. И до сих пор боюсь услышать в ответ хором, от обоих, кипящих по отношению друг к другу, и без всякого уговора: «Какая правда? Какая истина? Как я могу апеллировать к истине, когда она устанавливается только в суде?»
…В этом тоже разница между Россией и Америкой, по крайней мере, в ее либеральном восприятии, между массовым российским сознанием и либеральным – там истина устанавливается в суде, а здесь живет в сердце.
Ну, или не живет.
* * *
И последнее. В свете изложенного очень забавно звучат назойливые заявления многих пропагандистов от аналитики о том, что Медведев – «тоже либерал».
Что ж, поживем – увидим.
P. S. Предупреждая гневные филиппики объектов моего исследования, разъясняю: особенности сознания путиноидов не исследованы не потому, что я считаю его менее патологичным, чем либеральное сознание, а исключительно в силу его большей примитивности и, соответственно, меньшей интересности. В ряде же случаев (движения «Наши», породившие понятие «нашизм», «Молодая гвардия», представители которой умудрились однажды в знак протеста против критики Путина пробить его портрет потертым фаллоимитатором – как говорят, из коллекции их руководителя, «Еб…щиеся за Медведа», которые на практике воплотили свое название, причем в музее, а также ряда других) внешних признаков сознания обнаружить пока не удалось, что лишает исследование его предмета.