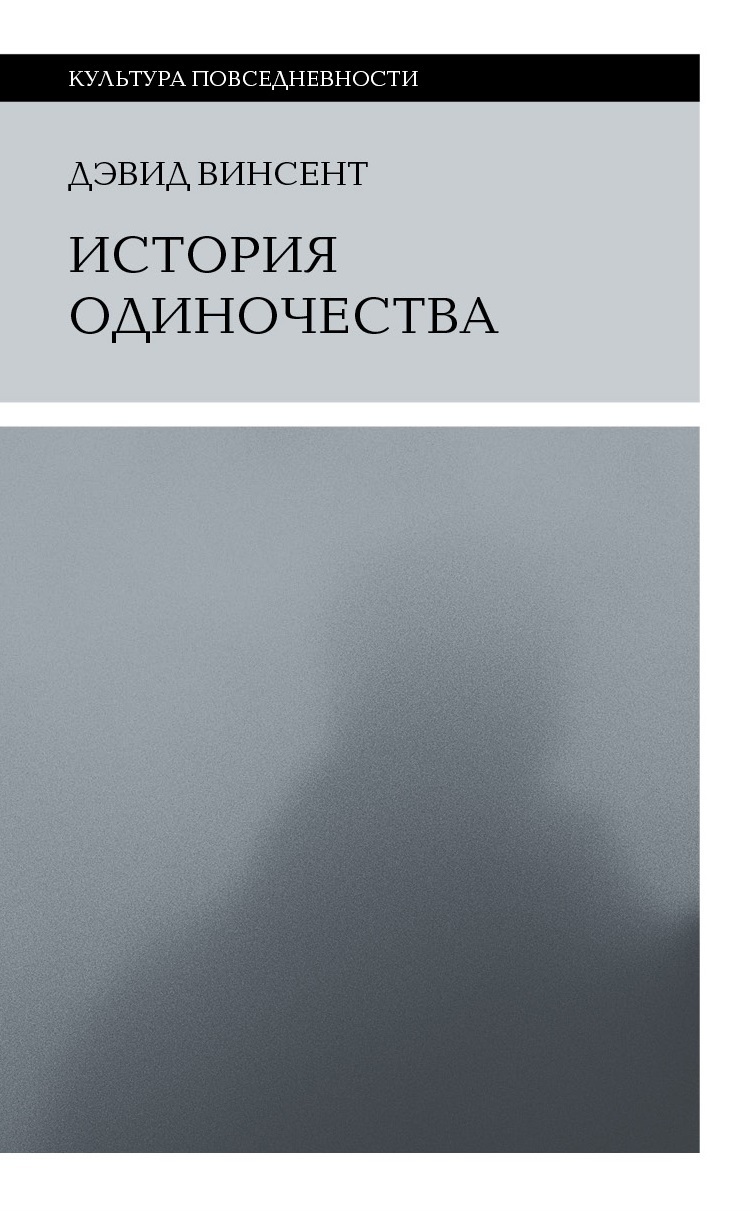ни разу не испытав здорового, даже скучного уединения в глуши» [1113]. Затем автор признает, что такое предприятие может быть оправдано лишь в одном случае: если оно используется для того, чтобы засвидетельствовать ущерб, причиняемый самым отдаленным уголкам планеты:
К добру иль к худу, homo sapiens – вид ищущий, потребляющий и уничтожающий. Сейчас мы вступили в эпоху антропоцена: люди разрушают планету. Возможно, для Земли было бы лучше, если бы мы прекратили исследования, чтобы человеческий мусор, отравляющий сейчас вершину Эвереста и морские глубины, не распространился на все части света. ‹…› Я считаю, что чем больше мы узнаём о нашем мире, чем больше мы его видим, чем глубже с ним взаимодействуем, понимаем его природу, тем больше вероятность того, что мы станем хорошими хранителями и в корне изменим свое эгоистичное деструктивное поведение [1114].
В одиночных свершениях героическое уступило место тривиальному или преднамеренно извращенному. Они уже больше не являют собой последнюю апелляцию к имперскому прошлому. Технологии постепенно лишили «Золотой глобус» большей части его первоначального очарования – именно поэтому в честь пятидесятилетия гонки были организованы ретросоревнования, участники которых были ограничены однокорпусными судами и средствами связи, использовавшимися Ноксом-Джонстоном и другими яхтсменами в 1968–1969 годах. Из восемнадцати участников завершили гонку лишь пятеро, а выиграл ее «французский моряк-легенда» Жан-Люк Ван Ден Хеде, которому потребовалось на это почти в три раза больше времени по сравнению с текущим рекордом [1115]. Приходится выдумывать и еще более странные задачи, лишь бы привлечь внимание спонсоров. Так, в 2018 году Джон Фарнуорт из Ланкашира отправился в базовый лагерь Эвереста, чеканя на протяжении всего пути футбольным мячом. Позже он, также набивая мяч, в одиночку прошел 60 миль по пустыне Сахара. Джон Кетчелл из Хэмпшира совершил в 2019-м первое одиночное кругосветное путешествие на гирокоптере, а француз Жан-Жак Савен в том же году стал единственным человеком, переплывшим Атлантику в бочке без весел и парусов.
Роль физического одиночества как реакции на модерн усложнил долгосрочный рост собственнического индивидуализма. С одной стороны, улучшения в потреблении и коммуникации во многом способствовали демократизации опыта одиночного поведения. С другой же стороны, они сохранили роль одиночества как критического ответа на материализм эпохи. Вновь обрел актуальность отказ от чрезмерных трат и «перегретого» социального обмена. Однако институциональные средства организации и поддержки такого уединения во многом утратили влияние.
Возвращение закрытых орденов в Британии середины XIX века и возрождение интереса к монашескому уединению после Второй мировой войны вызвали как очарование, так и отторжение – отчасти из-за зданий, в которых они размещались, и религиозных иерархий, которые их контролировали. Распространялись мифы о монастырях, обитатели и обитательницы которых за закрытыми для посторонних дверями давали обеты послушания начальству. Самый известный отшельник после 1945 года, Томас Мёртон, все больше сопротивлялся как аббату в своей траппистской общине, так и вообще католической системе цензуры. Тысячелетняя притягательность пустынных отшельников была в конце концов подорвана неумолимым распространением систем коммуникации, которое свело на нет долгие усилия по утаиванию сексуальных злоупотреблений, процветавших в неконтролируемых учреждениях. Вместе с тем интернет помог сделать христианские традиции открытыми для информации об альтернативных духовных практиках. Возникшая культура «ретритов» и медитаций одновременно и отражала отсутствие властей в цифровой вселенной, и поддерживалась этим отсутствием. Любой человек мог прямо на экране своего телефона или компьютера изучать заинтересовавший его способ духовного самоанализа и находить способы создания собственного набора практик или же участия в практиках других людей. Информация была одновременно эклектична и ориентирована на нужды интересующегося, свободного в выборе того, устанавливать ли ему связи с более широкими структурами власти и неравенства или нет.
Акцент в дебатах об одиночестве сместился. Тревоги, которые заполняют страницы трактата Циммермана, и ожесточенные споры последующих десятилетий о формах тотальной изоляции сегодня могут быть непонятны. Отчасти это связано с уменьшением роли общественных институтов. Напряженность дискуссий XIX века о длительном одиночном размышлении отражала стремление к власти, проявляемое организованной религией совместно с государством. Как увлечение одиночным заключением, так и реакция на него были следствием попытки правительств построить национальную систему наказаний с использованием персонала и доктрин Англиканской церкви. Богословие и архитектура монашеской традиции были приспособлены для служения насущным светским целям. Результатом длительного эксперимента, начатого в Пентонвиле в 1842 году, стала окончательная потеря уверенности в последствиях насильственной, замкнутой религиозной рефлексии. Честолюбивый замысел преображающей библейской беседы между заключенными и капелланами сменился в конце концов на постоянную заботу о базовых вопросах психического здоровья, недостатка образования, ненадлежащей гигиены и безопасности. Если прежде раздельное содержание было решением задачи сдерживания, наказания и реабилитации, то теперь оно стало характерной слабостью всей пенитенциарной системы. И даже здесь цифровая связь играет свою роль. К числу важнейших недостатков тюрем XXI века относится очевидная легкость, с которой заключенные могут тайком пронести в камеру телефон и использовать его для организации поставок наркотиков и прочей контрабанды.
Изменился реестр рисков одиночества. В пионерских текстах современной психологии религиозная мания была особенно пагубным следствием напряженной частной молитвы в отрыве от коллективных форм христианского поклонения. Сторонники возобновленной отшельнической традиции кичились опасностями, присущими их уединенным беседам с одиноким, молчаливым Божеством. Однако к началу нынешнего столетия сам по себе акт отречения от общества уже не рассматривался как патология преобладающих форм общения. Вместо этого нарастающая паника по поводу состояния межличностных отношений стала сосредоточиваться на категории одиночества, что можно рассматривать скорее как недостаток уединения, нежели как недостаток коммуникабельности. Критики цифровой революции включили в свое обвинительное заключение тезис о том, что она увеличила число случаев этой формы страданий [1116]. С одной стороны, активные пользователи могут утратить навыки поддержания интимных личных отношений или возможность практиковать их, а с другой стороны, в период перемен и неуверенности в себе они могут впасть в депрессию из-за якобы красивой и беззаботной жизни тех, кого они видят в соцсетях [1117].
Здесь, как и в случае с влиянием смартфона в целом, существует проблема измерения. В то время как уединение все еще редко учитывается, одиночество, наряду с цифровыми медиа, постоянно переводится на язык цифр. Так, согласно недавнему американскому исследованию о подростках, пользующихся интернетом, «в 2015 году одинокими чувствовали себя на целый 31 % больше восьми– и десятиклассников, чем в 2011 году, и на 22 % больше – двенадцатиклассников» [1118]. В предыдущей главе уже отмечалась ненадежность такого рода арифметики и подчеркивалась большая распространенность относительно незначительного «переходного» одиночества, когда люди обсуждают все более сложные стадии своей жизни. Есть также вводящая в заблуждение тенденция к проекции опыта узкой группы подростков на все население. Пожалуй, неудивительно, что в недавнем исследовании тех, кто пережил