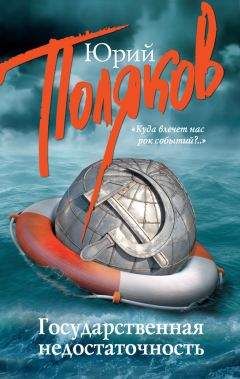– Один из ваших героев пришел к такому выводу, что беспринципность должна быть последовательной и крупномасштабной – только в этом случае можно рассчитывать на политическую карьеру. Разделяете ли лично вы мнение, что политика – дело, безусловно, грязное?
– Дело в том, какова сверхзадача у человека, идущего в политику. Если человек идет в политику с целью реализации своего серьезного проекта, связанного с существованием нации и государства, это – один вопрос. Тут можно простить и какие-то компромиссы, и даже некоторые противоречивые поступки. Понятно, что в этой среде обойтись без них сложно. Но, как мне кажется, большинство нынешних политиков идут в нее либо для удовлетворения собственного тщеславия, либо решать личные материальные проблемы. Вот в чем беда.
– Юрий Михайлович, читая ваши книги, не раз ловил себя на мысли, что вы обладаете способностью видеть людей насквозь. Звучит комплиментарно, но таково впечатление. Быть может, оно ошибочно? На что в облике незнакомого человека вы обращаете внимание в первую очередь?
– Вы знаете, я специально не занимаюсь психологическим анализом. Просто когда я пишу очередного героя, то пытаюсь смоделировать его внутренний мир. Если вы заметили, в моих книгах нет ни полных подлецов, ни ангелов. Как нет их и в жизни. И это, кстати говоря, совершенно нормальная позиция, которая именовалась психологизмом русской прозы. Я этому учился у Чехова, у Бунина, у Булгакова, у Трифонова. Другое дело, что мы от этого отвыкли. Мало того, сейчас появилось большое количество пародистов Чехова. «Дядя Вася», «Вишневый садик», «Две сестры» и так далее. Меня это просто злит. Что пародировать Чехова? Мы живем в гораздо более драматичную эпоху. Ведь Чехов не дожил даже до первой русской революции. Он умер, реформировав мировой театр.
Одна из драм нашей литературы связана с акцией по призыву ударников в литературу. В 20-е годы решили, что человек, умеющий хорошо работать, сможет и хорошо писать. Вступив в Союз писателей в 1980 году, я застал остатки того поколения. На них, конечно, было грустно смотреть. Поскольку они так и остались малокультурными людьми, имеющими весьма отдаленное отношение к литературе. Хотя бывали и фантастические исключения: Платонов, например. Но сейчас произошла не менее парадоксальная и забавная вещь. С середины 80-х годов начался призыв филологов в литературу. Было объявлено, что человек, имеющий филологическое образование, может быть хорошим писателем. Но это такая же нелепость, как призыв ударников в литературу. К сожалению, сейчас наблюдается очень тревожная тенденция, связанная с выдавливанием такого понятия, как талант, за скобки. Если человек закончил творческий вуз, то ему вроде как и талант не нужен. Но дело в том, что без таланта в литературе делать нечего! Талант вбирает в себя и особое чувство слова, и психологическую достоверность, и социальную заостренность. А это все – или дано, или не дано. Да, в 20-е годы при помощи призыва ударников хотели сформировать социально однородные писательские ряды. Но при этом Ильф, Петров, Булгаков оставались хорошими писателями, а ударник…
– …оставался ударником.
– Да, оставался ударником. Точно так же и филологи остаются филологами. Они от этого не станут Шолоховыми или Блоками.
– Главный герой одной из ваших книг пришел к выводу, что все люди «делятся на две категории – на тех, кто любит переезжать, и тех, кто не любит. Любящие переезжать раздвигают пространство жизни. Нелюбящие переезжать «берегут это раздвинутое пространство от запустения». К какой категории относитесь вы?
– Я отношусь к категории (причем отношусь к ней в обостренной форме) людей, которые не любят переезжать. Мои первые выезды еще в студенческие годы привели меня к выводу, что я в другой стране выдерживаю две недели. Потом мне не нужна ни страна, ни ее достопримечательности. Помню, я читал лекции в Глазго. Контракт был на месяц. И спустя две недели я пришел в деканат и сказал: «Вы знаете, через две недели мне надо уезжать, но у меня к вам просьба…» Не дослушав, на меня замахали руками: «Да что же это такое! Перед вами был человек, у которого был контракт на месяц. А он пробыл два месяца. Перед ним был человек, который вместо месяца пробыл три. У нас ведь тоже бюджет. Мы не можем продлить вам контракт». И когда я сказал, что хотел бы уехать пораньше, они были очень изумлены.
При этом я абсолютно спокойно и без всякого осуждения отношусь к людям, которые уехали. Масса моих друзей живет в других странах. Я с ними с удовольствием встречаюсь. Но они – другие люди. И это нормально. Видимо, разнообразие закладывается генетически.
Беседовал Олег НАЗАРОВ«Солидарность», № 30,2002 г.Когда-то у меня увели «Козленка в молоке». Звоню по книжным магазинам – был, говорят, «Козленок», но весь вышел. Знакомые подсказали: ты по развалам посмотри. Прошелся по развалам. Опять мимо. Пришлось перечитывать книгу, как сейчас говорят, в электронной версии. Странно, ни стрельбы нет в романе, ни матерщины, кровавых коктейлей со спермой, а днем с огнем ее на прилавках не сыщешь. Рассказываю автору о своих злоключениях. Он сидит в кресле и, улыбаясь, разводит руками: бестселлер. Кстати, кресло тоже не простое – занимали его в свое время и Симонов, и Чаковский… Кресло главного редактора «Литературной газеты».
Но дело даже не в этом. Я знаю его долгие годы, дорожу дружеским расположением, с удовольствием читаю книги. Однако недавно открыл его для себя заново. Мы сидели на каком-то вечере в баре, и к нему за автографами выстроилась очередь. Тихая, уважительная.
Очередь к классику нашей прозы.
– Юрий Михайлович, ты не скучаешь по партейно-застойному прошлому?
– Почему вдруг спрашиваешь?
– В твоих книгах за иронией часто сквозит ностальгия по тем временам.
– Мы все с ностальгией вспоминаем о молодости. Эмоции, страсти, надежды, курьезы…
– Припомни какую-нибудь яркую историю той поры.
– Ну хорошо, вот тебе реальный случай… Я когда друзьям рассказываю – не верят. Году где-то в 86-м, еще в разгар советской власти, отлеживаюсь утром после загула. Звонят из Союза писателей и говорят, что меня срочно разыскивают, вызывают в ЦК партии. А я с дикого абсолютно бодуна. Стараюсь привести себя в порядок. Опохмелиться, понятно, нельзя. Короче, мучаюсь, но собираюсь.
Принимает меня высокий чиновник – «литературовед» всей страны. Я даже не знал, с какой стати все это происходило. Понимал только, что моя задача – не открыть рот. Потому что, как только я открою рот, станет ясно, в каком я состоянии. Он спрашивает: как, мол, вы относитесь к таким-то писателям. Я в ответ: м-м-м. Он перебивает: «А вот я думаю…» И развивает мысль. Потом опять что-то спрашивает – я снова: м-м-м. Он перебивает и пускается в новые рассуждения. И в результате…
– Диалог получился?
– Да, я так что-то и мычал. А он говорил, говорил. И все на этом закончилось. Я ушел. Так и не понял, зачем меня вызывали. И потом вдруг меня вносят в списки секретарей Союза писателей России, и мне один осведомленный аппаратный работник сообщает: «Знаешь, ты очень понравился этому человеку. Он сказал: «Бывают же писатели, которые умеют не только говорить, но и слушать». Это чистая правда! Это к вопросу о жанре. Если бы я изложил эту историю в романе, она бы воспринималась как вымысел.
– «Придуманная правда» – расшифруй, пожалуйста, что это такое.
– Жанр, стиль, в котором я работаю, определяются как гротескный реализм. «Придуманная правда» – это мой термин. Смысл в следующем: литература не может отражать жизнь один к одному. Будет неинтересно. Но вымысел писателя должен строиться по тем же законам, что и жизнь. Поэтому в моих вещах полностью придуманного нет.
В «Козленке» поэтесса Кипяткова – бабушка русской поэзии – все время прорывается к правительственному телефону. Тот, кто знаком с жизнью Союза писателей в застойный период, сразу узнает в ней покойную поэтессу Екатерину Шевелеву. Она была грозой всех высоких кабинетов – прорывалась к вертушке, чтобы позвонить Юрию Андропову. И таких штрихов у меня много. Но мой принцип отличается от того, по которому написан катаевский «Алмазный мой венец». У него – зашифрованные мемуары. У меня не мемуары, а, как сейчас принято говорить, «фикшн». Это придуманный мир. Придуманная правда. Парадокс заключается в том, что, несмотря на придуманность, это воспринимается действительно как отражение эпохи.
– Говорят, коллеги грозились побить тебя после выхода книги.
– Кое-кто обиделся, конечно. Но большинство – нет, и драк никаких не было. Люди не узнают сатиру на себя. Мне после выхода книги позвонил прототип одного из героев и говорит: «Здорово ты расчихвостил такого-то!» И назвал имя. А я-то имел в виду его. Он себя не узнал, потому что он совершенно другого представления о себе.