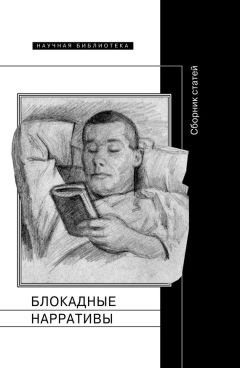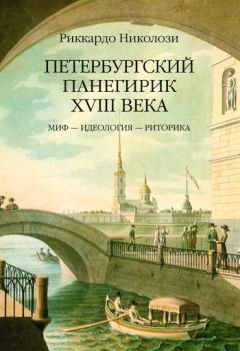Искренность, которую отстаивала Берггольц, пронизана трагизмом. В трагедии «Верность» (1946), посвященной обороне Севастополя, Берггольц сама подчеркивает эту связь:
От сердца к сердцу.
Только этот путь
я выбрала себе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.
Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих строках глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет,
кто проходил огонь, и смерть, и лед,
я говорю как плоть твоя, народ.
По праву разделенного страданья.
…И вот я становлюся многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.
Но мне же суждено – самой собой
остаться в разных обликах и душах
и в чьем-то горе, в радости чужой
свой тайный стон и тайный шепот слушать.
Речь здесь идет о коллективном трагическом опыте, о прошлом. И хотя в творчестве Берггольц очень много героики и официального оптимизма, именно эти трагические ахматовские интонации выделяют ее из среды поэтов-блокадников. Лишь очень немногие художники смогли удерживать их: помимо Ахматовой, пожалуй, лишь Шостакович. Их не следует смешивать с минором, видя в проблесках света непременную дань героике. Финал Ленинградской симфонии написан в до мажор, но это отнюдь не тема грядущей победы, не триумфальный финал: в нем звучит все та же трагедийная тема нашествия, это утверждение трагедии в настоящем. Для трагического мироощущения будущее – это настоящее, ставшее прошлым. Оно не утрачивает своего трагизма. Именно об этом – «Дневные звезды». Книга, написанная в 1959 году и положившая начало одному из самых полнокровных течений в послесталинской литературе – так называемой лирической прозе, была, по сути, итогом размышлений о блокаде – главном событии в творческой биографии Берггольц. И хотя значительная часть текста не могла войти в книгу по цензурным соображениям, сама лиризация травмы стала откровением для советского читателя. Опыт войны и блокады был экзистенциальным опытом, выход к работе с которым был наглухо заперт в сталинской литературе.
Прямой противоположностью лирическому субъективизму является документ. Но когда сам документ оказывается продуктом фиксации субъективного восприятия повседневности (дневник) или работы памяти (воспоминания), он лишь усиливает эту субъективную тенденцию. Его природа оксюморонна. Такова «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина (1977–1981). Подобно лирической прозе, документы композиционно выстроены здесь в соответствии с законами лирического монтажа. Стратегия «Блокадной книги» близка к стратегии лирической прозы и так же, как и она, направлена на разрушение истории как конвенциального нарратива и сохранение памяти как субъективного опыта. Но был здесь и другой актуальный план. Как заметил по поводу другого документального проекта подобного же рода – «Черной книги» – Михаил Рыклин,
лиричность этому повествованию придавало завершающееся сталинское время, когда необходимость вытеснения огромных блоков социальной памяти была чистой и абсолютной. Нацистские преступления были более чем преступлениями нацизма, они были также метафорой тех многочисленных преступлений, о которых нельзя было сказать (не просто потому, что это было запрещено, но и потому, что отсутствовал язык, на котором это можно было бы сделать); будучи к тому времени завершенным явлением, нацизм был для его советских жертв узким окошком в мир истории. Он совершил преступления, которые уже приобрели буквальный называемый смысл[23].
Беллетристика была куда более прочной почвой. Характерно, что против документальной тенденции во второй половине 1970-х годов активно выступала критика. Так, Игорь Золотусский в статье «Лучшая правда – вымысел» доказывал, что «документу не хватает философского дыхания» и что «вымысел выше факта»[24], а Владимир Кардин утверждал, что «документалистика – зло, мешающее художественному творчеству»[25]. Парадоксальным образом, лирическая проза, хотя постоянно апеллировала к памяти, была, в сущности, антимемуарной.
Берггольц прославилась активными и страстными выступлениями в защиту «самовыражения» против охранительной критики. Это и вызвавшая бурную дискуссию вышедшая сразу после смерти Сталина статья «Разговор о лирике» (1953), а затем «В защиту лирики» (1954), и, наконец, выступление на II съезде писателей (1954) против наиболее ортодоксальных советских поэтов Николая Грибачева и Анатолия Софронова за право художника на творческую свободу. Но сама концепция «Дневных звезд», как представляется, была глубоко двойственной в том, что касается идеи самовыражения. Сам образ дневных звезд, отражающихся только в глубоких колодцах памяти, – символ очень личного и одновременно коллективного опыта и коллективной памяти. Личный опыт автора становился коллективным потому, что
советский человек с его титанической биографией не только хочет поделиться своим духовным опытом… не «немой исповедью», не скороговоркой, а через Главную, Большую книгу своего писателя. Больше того – он хочет вместе с писателем создать эту книгу, вместе с писателем он хочет быть героем этой книги, чья душа настежь, до самых глубин, открыта перед народом, то есть он хочет быть героем «исповеди сына века».
В финале «Дневных звезд» Берггольц обращалась к читателю со словами:
Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути, – значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно…
Самовыражение оборачивалось превращением автора в медиум коллективного опыта, его очень личный опыт провозглашался коллективным. Эта коллективизация личного опыта была, конечно, эстетическим жестом. Катаев в «Алмазном моем венце» прямо признавался, что «терпеть не может мемуаров». Память обретала свою исконную функцию – противостоять истории, и творчество Берггольц конца войны зафиксировало сопротивление опыта практикам историзации и мемориализации. Последние апеллируют к фактам повседневности, деталям быта и в конечном счете к эмоциональному дискомфорту, тогда как опыт связан с «памятью чувства», травмы и боли и питает экзистенциальный дискомфорт.
Этому опыту предстояли суровые испытания послевоенного времени. Возврат прежних идеологических и эстетических конвенций начал ощущаться в литературе с середины 1943 года, после поворота в войне: лирика, трагедия и опыт начинают заменяться эпосом, героикой и историей. Уже в 1946 году понадобится серия знаменитых «ждановских постановлений», которые завершат и узаконят этот переход, занявший три года – 1943–1946. Пока же критика ищет синтез обоих начал. Симптоматична в этом смысле статья Лидии Поляк в сентябрьской – октябрьской книжке «Знамени» за 1943 год «О “лирическом эпосе” Великой Отечественной войны». «Великие исторические эпохи, – писала Поляк, – рождают искусство большого плана, народное искусство, искусство героики… героический эпос». Своеобразие героического эпоса войны в том, что он
насквозь лиричен. Поэтическая терминология должна включить в себя такие, на первый взгляд, парадоксальные определения, как «лирический эпос» и, с другой стороны, «эпическую лирику»… Уже рождение социалистической лирики способствовало стиранию граней между эпосом и лирической поэзией.
«Лиричность эпического повествования, как и, с другой стороны, эпический тон лирики, – утверждала Поляк, – характерная черта нашей поэзии, поэзии отечественной войны», и именно поэтому
«личное» перестало звучать в поэзии как нечто «недостойное», запретное. Советские поэты наших дней освободились от аскетических пут, от железных вериг, которыми они стесняли себя в недавнем прошлом. Великая Отечественная война усилила, заострила, наполнила новым содержанием патриотические чувства советского человека и тем окончательно сняла противоречия между личными, «своими» интересами и интересами нации, народа, родины. В поэзии наших дней призыв к защите родины – это одновременно и призыв к защите личного, индивидуального человеческого счастья. И месть за личное горе сливается с местью за горе народа.
Отсюда следовал определяющий для последующей эпохи «бесконфликтности» вывод: «Конфликт между личным и общественным перестает существовать». Отсюда следовало и требование возврата к соцреалистическому герою:
В поэтическом эпосе наших дней есть некоторая неполноценность… Героический эпос военных лет «безгероен»… Советские поэты до сих пор не создали того героического образца человека-бойца, который вошел бы в галерею неумирающих поэтических памятников эпохи… Лирический образ поэта, его поэтическое «я» вытесняет фигуры отдельных героев… Советские поэты могут и должны создать образ народного героя.