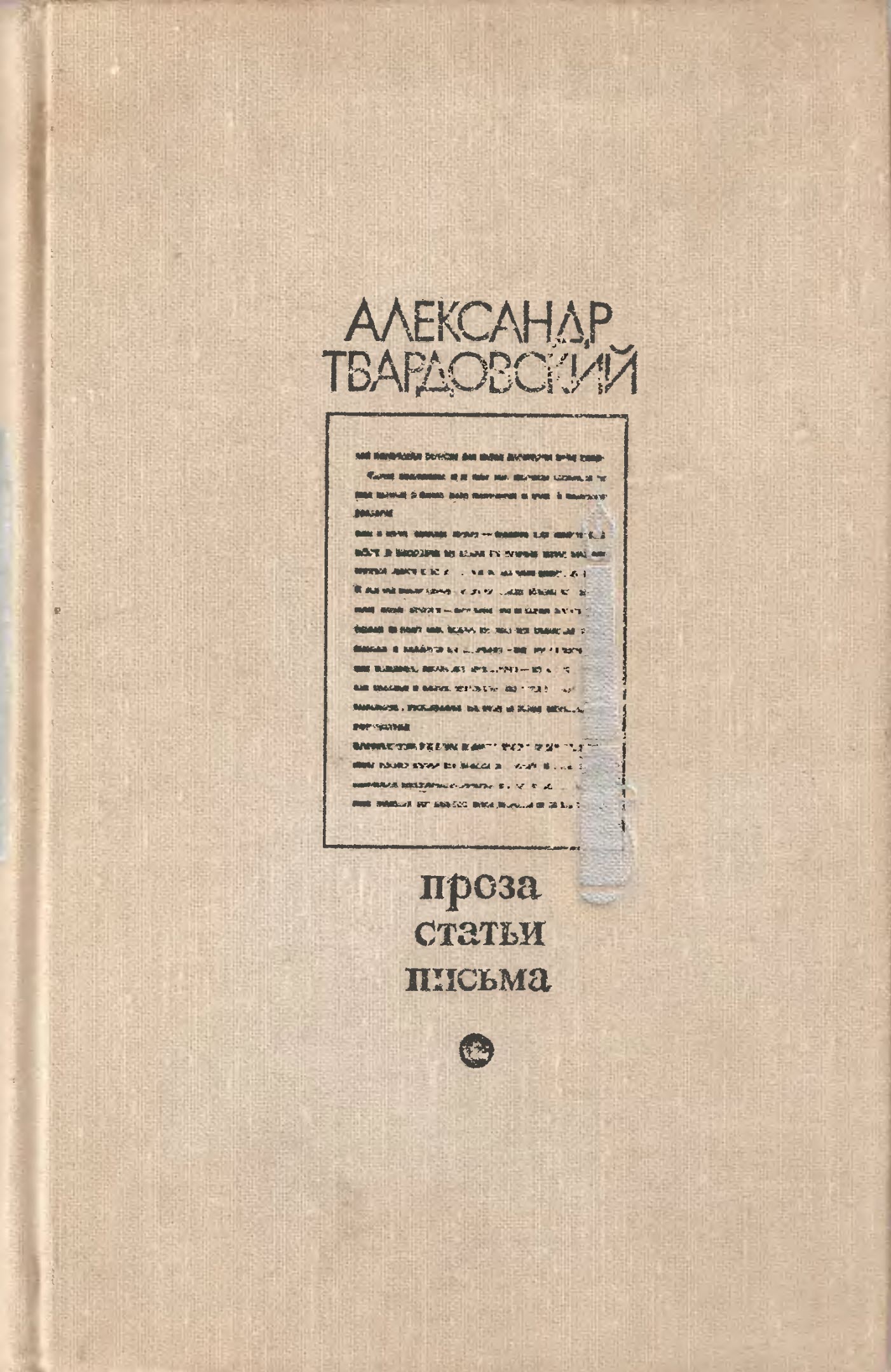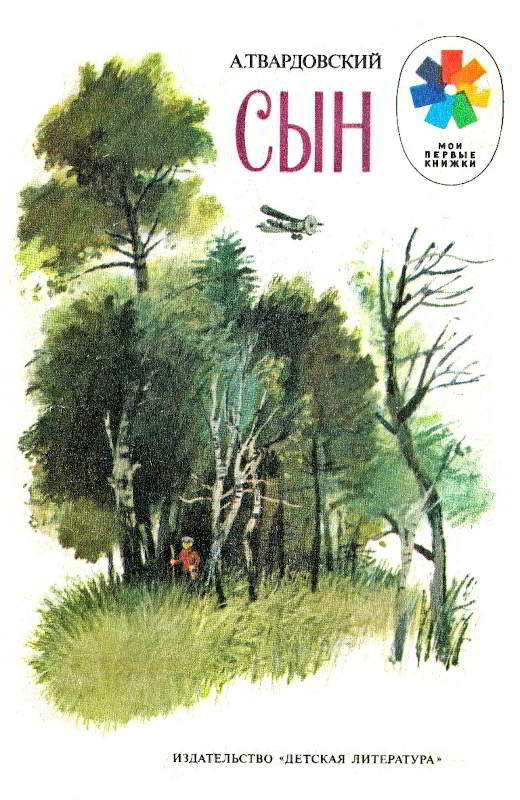на их лицах, слышалось в голосах, звучало в песне, что сперва робко, а потом все увереннее заводилась в одном из вагонов, в земляческом кругу девушек.
По платформе от вагона к вагону торопливо перебегал какой-то сержант, точно опоздавший проводить кого-то едущего с этим поездом.
— Касплянские тут есть? — спрашивал он, заглядывая в дверь. — Нету?.. Ага, из-под Ярцева! Знаю. А я слышал, что тут и наши, касплянские, едут. Думаю себе: может, кого своих увижу? Ну, счастливой вам дороги! Счастливой…
И с волнующей сердечностью разноголосо отзывался каждый вагон:
— Счастливо и вам, товарищи! Дай вам бог всего доброго! Спасибо вам, родные наши!
— Спасибо, сыночек!
И вдруг из дальнего конца эшелона дошло, донеслось, передаваясь с голоса на голос:
— Есть, есть касплянские! Кто тут спрашивал? Есть! И сержант побежал в тот конец эшелона.
В УСАДЬБЕ ГРАФА ТЫШКЕВИЧА
Прибыли сюда, за Вильнюс, в бывшее имение графа Тышкевича с парком и прудами, занесенными белой ряской от цветения деревьев. Что дальше на запад, то как будто все южнее: рожь уже бела на этих литовско-польских песчаных косогорах. Дорога сюда и особенно сам Вильнюс радуют своей не сравнимой ни с чем прежним целостью.
Этот город через два-три года будет городом с малыми приметами войны, хотя, правда, видел я его не весь. Большинство домов требует только остекления, а много и стекол целых. Странно сочетать эту картину с тем, как виделся нам этот город в. дни штурма его восточной окраины, когда мы, корреспонденты, сидели километрах в трех-четырех в штабе дивизии, с профессиональной бессовестностью ожидая, когда можно будет въезжать в Вильнюс, посмотреть, поснимать и поспешить обратно. Думалось, что ничего уже здесь не останется — так много было огня, который как будто сталкивался и перекрещивался над невидимым за дымом и пылью боя городом. Тогда он не был взят, а взят был неделю спустя.
Памятнейшее впечатление тех суток, когда мы сидели под городом, в легкой березовой рощице, окружавшей хуторскую усадьбу. Хозяйка хутора всякий раз, как над рощицей появлялась немецкая авиация и начинали бить зенитки, торопилась загнать овец и свиней под крышу сарая. Так именно делают в деревне в грозу. Двух же своих коров, как самое ценное в хозяйстве, она и вовсе не выпускала из сарая, кормила их там кошеной травой. Жутко и трогательно было видеть эти ее хлопоты…
Усадьба, в которой мы теперь разместились, по-польски красива и форсиста. Дом не старый, 900-х годов, скорее тяжеловесно-благоустроенная, монументальная дача, чем помещичий дом. Хороши пруды, расположенные один над другим, террасой. Парк — наполовину лес, часть его, прилегающая к железной дороге, вырублена немцами по их обычной предосторожности. Клены, дубы, вязы, — березы в редкость, осины ни одной — даже нельзя себе представить, чтоб такое не барское, простецкое дерево могло здесь расти. Все это стоит высоко над водой прудов и разделено на участки глубокими, занесенными полудикой, дремучей зеленью оврагами, которые подвергались в свое время культурной отделке; вдруг выходишь на тропу, под которой слышится прежняя щебеночная дорожка, натыкаешься на заглохший бассейн, где из деревенских камней и городского цемента смастачены всякие причуды, на которых играла когда-то вода. Водопады сохранились только у двух прудов, в искусственных проломах плотин. Вода с нарочито аляповатых каменных карнизов и выступов падает на подобные же уступы терраски.
Великолепие зряшное, запущенное. Черные и красные провода связи тянутся через усадебные лужайки, запущенные цветники, висят на молодой парковой поросли.
Мест для купанья и гулянья так много, что не знаешь, что со всем этим делать. Как на большом и дурном банкете, где всего много, гораздо больше, чем нужно людям, чтобы выпить и закусить с удовольствием, и от этого как-то невкусно и скучно, в чем не хочется признаться.
Зацвела липа, вечером услыхал запах. Зенит лета. По одному этому запаху мог бы вспомнить до подробностей все три лета войны, какими они были для меня.
Как водится, все не так, как представляется по предварительным данным. И, кроме того, с этим Гродно дело особое, — это не Минск либо Витебск. Те города занимались нами в результате окружения их, выхода флангами далеко на запад. Город взят — значит, война уже далеко, хотя бы группы и группировки противника были не только в городе, но и восточнее его, как было, например, с Минском. Здесь немцев выпихнули из города, но они — вот они, за рекой, и даже удерживают окраину города. Бьют артиллерия и минометы, постреливают автоматчики с чердаков и из окон. Население в подвалах домов. Оно еще не пережило весь срок тяжкой муки этого сидения. Не может еще вздохнуть в радости полного избавления от страха, в радости, которая так подкрепляет и добавляет собою радость избавления вообще от ига чужеземцев.
В городе продержались мы с редактором часа два, делая по возможности вид друг перед другом, что страшно нам не очень. А было очень страшно, томительно до утомления. Уже не испытываешь ни малейшего любопытства, томишься собственной неприкаянностью, праздностью здесь, где идет тяжелое дело, которым люди занимаются по прямому долгу. А ты стоишь здесь с задачей постоять, поглазеть и рассказать затем не это, что видишь и переживаешь, — если бы уж это! — а то, что принято почему-то рассказывать по-корреспондентски в случае занятия города нашими и не иначе, как уже рассказывалось неоднократно, хотя здесь совсем другое.
Еще в этой поездке случилось так, что мы въехали в город со стороны, где действовали войска другого, соседнего фронта. Нас никто не встречал как знакомцев по прежним приездам, никто даже не знал названия нашей газеты, мы были не «сверху», как говорится в частях о всяческих представителях из армии и фронта, а откуда-то сбоку. Если учесть еще всегдашнее соперничество соседей, обычные счеты в первенстве вступления в освобожденный город и, может быть, наше по незнанию бестактное замечание относительно того, какой фронт берет город, а какой «поддерживает», то и совсем мы оказались как бы не у дел. Потоптались, походили, прижимаясь к стенам зданий, — надо уезжать.
* * *
Женщина на улице:
— Скажите, скажите, когда же окончится этот ужас?
— Какой ужас? Где ужас? — говорим, хотя самим понятно, о чем она говорит. — Это наши снаряды летят.
— Ио если туда летят наши, то оттуда должны лететь их снаряды, так ведь? Вы знаете, у меня дочка лежит третий день в подвале, не ест, не пьет, ребенка оставила. Она,