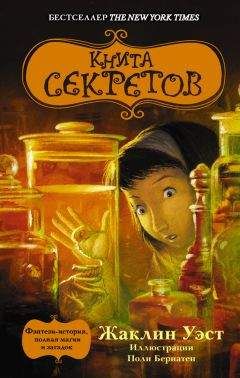умоляла врачей сделать все, чтобы спасти ему жизнь. Его сбила машина, и вся его морда была разворочена, челюсть безжизненно висела, он лишился передних когтей. В клинике я сказала, что я заплачу любые деньги, чтобы спасти его, и каким-то чудом врачам это удалось.
Странно, что я выросла в доме, где произошло так много смертей, однако никогда до этого не видела ничью смерть и даже мертвое тело. Бэгги был первым из живущих, кто умер у меня на глазах. Боль от утраты была мучительной. После того как он умер, я кремировала его, отнесла прах на то церковное кладбище, где была похоронена Хезер, и рассыпала прах по ее могиле. Теперь каждый раз, когда я прихожу туда, я знаю, что там они оба, и вспоминаю их.
В то время я была за Питом как за каменной стеной, как и за моей подругой Паулой. А когда двери моих отношений с мамой медленно закрылись, я почувствовала, что снова нахожусь в начале новой главы в своей жизни. Я очень боялась и не понимала, что теперь меня ждет, хотя даже после смерти Бэгги я не переставала находить силы в ощущении чьего-то благотворного присутствия рядом с собой и верила – этот кто-то наблюдает за мной, заботится обо мне и станет свидетелем того, что однажды я преодолею и это.
Когда Эми пошла в среднюю школу, я уже не могла отмахиваться от очень серьезного вопроса: что я расскажу ей о своем прошлом, о маме с папой?
С папой было проще всего. С раннего детства я просто говорила Эми, что он умер. Она никогда не задавала неловкие вопросы о том, как он умер и когда, она просто, казалось, приняла этот ответ, и мы никогда больше это не обсуждали. А вот с мамой все было гораздо сложнее. Я сказала ей то, что воспринимала как ложь во благо: что она не очень здорова и находится в своего рода больнице, я могу навещать ее там, но детям туда приходить не разрешают. Когда мама звонила мне, мы говорили обо всем в общих чертах – о повседневном, например, что мы смотрели по телевизору, так что я знала, что если даже Эми и подслушивает, то не догадывается о правде. А еще я прятала мамины письма от Эми, потому что они были на тюремной почтовой бумаге. Иногда я просто отрывала верх письма, так, чтобы не был виден адрес.
Это было непросто, потому что я не хотела лгать Эми, и пыталась сделать так, чтобы информация, которую я ей передаю, была как можно ближе к правде, однако не раскрывала все ужасные подробности о ее бабушке – а вместе с ними и о моем собственном прошлом. Если бы она узнала про это, как она, будучи ребенком, справилась бы со всем этим? И как я могла помочь ей пережить это, когда во многом и сама все еще переживала тот опыт, пыталась выбросить из головы мысли о вине своей мамы. Даже если она бы и смогла принять эту историю семьи, ей пришлось бы скрывать ее от других людей, врать, точно так же, как и мне, большую часть моей жизни, а я не хотела такой жизни для нее. Не говорить ей правду казалось мне самым меньшим из зол.
Однажды, когда ей было девять или десять и мы жили одни, к нашему дому подошел репортер из газеты «Сан». Цель его визита заключалась в том, чтобы узнать мое мнение по поводу одной из историй о маме, которые время от времени просачивались в прессу. Я не представляла, как журналисту удалось вычислить, где я живу. Он стоял перед дверью и начал громко говорить о маме и папе. Я пришла в ярость. Я отвела Эми в ее спальню, затем вернулась к репортеру и сказала, что думаю, – мне абсолютно нечего сказать ему.
Однако мне становилось все тяжелее скрывать от Эми правду. Она начала задавать мне вопросы, на которые я не знала как отвечать. А еще как-то раз мой брат Стив, еще до нашего болезненного разрыва, зашел ко мне. Он никогда не стеснялся говорить о нашем прошлом и делал это довольно свободно. Если при этом Эми была дома, то я уводила ее в другую комнату и просила его говорить потише. Однажды она заметила его карту «Виза» на столе и прочитала, что фамилия у него Уэст. Мне пришлось объяснять ей, что раньше это была и моя фамилия, но я сменила ее, чтобы и я, и Эми носили фамилию ее отца.
Я понимала, что она не сможет вечно игнорировать эту часть своей жизни, но не знала, что сказать ей и когда это сделать. Я боялась, что другие дети в школе рано или поздно догадаются о правде и расскажут ей. Я понимала, что этот сюрприз может стать разрушительным для нее и в теории очень негативно повлияет на наши с ней взаимоотношения. Я чувствовала себя связанной по рукам и ногам и постепенно дошла до той точки, когда было уже абсолютно очевидно, что мне придется взять быка за рога и все ей рассказать. Но в конце концов я поняла, что мне уже не нужно этого делать.
Эми очень закрытый человек, она старается держать все свои чувства при себе. С годами я научилась тому, что если у нее что-то на уме, то ее поведение меняется и она становится даже менее общительной, чем обычно. Она не рассказывает мне о том, что ее тревожит, наоборот, это мне приходится добывать сведения у нее. Во время одного из таких периодов, когда она проходила через обычный процесс трудной, но обычной для подростков перемены в поведении – меняла свой внешний вид, много капризничала, хлопала дверями, – я поняла, что что-то не так и решила выяснить, в чем дело.
Как-то раз я забрала ее из школы, отвезла домой и, пока мы еще не сели в машину, спросила, что ее тревожит.
– Меня ничего не тревожит, мам, – сказала она.
– Нет. Я же вижу,