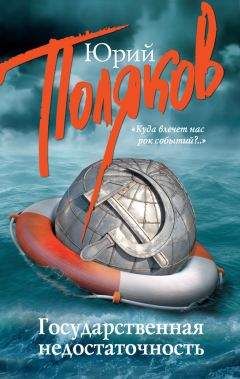Н. М. И без всякого смакования, которым порой тебя вгоняют в краску, хотя находишься один на один с книгой.
Ю. П. Это все идет от беспомощности. «Апофегей» имел успех, потому что в советский период это была одна из первых вещей, где довольно подробно описаны интимные отношения героев. Но для этого придуманы особые слова, эвфемизмы, метафоры и т. д., то есть читатель все воображал, но я не оскорблял его слух. Если бы задача писателя состояла в том, чтобы подробно описать процесс испражнения, то литература на этом бы закончилась. Спорят, к примеру, о Сорокине, но здесь все понятно: человек строит свою известность на сознательном нарушении табу нашего культурного менталитета. Скажем, у немцев весь юмор во многом построен на том, что связано с физиологическими отправлениями организма, и у них это не вызывает отторжения. Но Сорокин (ведь не зря он и многие наши писатели-чернушники подолгу живут в Германии) переносит чуждую традицию в нашу литературу – это вызывает скандальный интерес, но не производит художественного эффекта, потому что у нас другая культура.
У меня складывалось иначе. Написал «Сто дней до приказа», мне сказали, что это никогда не напечатают. Ну и лежало в столе до тех пор, пока не оказалось востребованным. Написал «ЧП». Та же история. И вдруг выходит постановление ЦК партии о совершенствовании работы с комсомолом, а по тем временам это обязательно надо было подкрепить художественным произведением. Стали искать что-нибудь критическое о комсомоле, мне позвонили: приносите, но будем сокращать!
А что там можно сократить? Ничего особенного, нет никакого «разгула» физиологизма, правда, есть любовница у первого секретаря. «Надо убрать». – «А если сделать развод?» – «Ну, сделай». Это какие-то вещи, которые сейчас абсолютно не заметны. И «ЧП…» вышло, кстати, в январе 1985 года, еще до перестройки. Сразу после публикации было немыслимое количество звонков от кинематографистов с предложением об экранизации. То же самое было и с другими вещами.
Н. М. Для писателя не имеет значения время, в которое он работает?
Ю. П. Заметьте, и Булгаков, и Платонов жили в очень жестокое, страшное время. Дело не в том, что были коммунисты. История показывает: кто бы ни приходил к власти, десятилетия после революции во всех странах были жестокие, во Франции, в Англии, в Испании – везде послереволюционный период, когда взбаламученное общество начинают учить жить по новым законам, протекает тяжело. Ну и что? Вот говорят, что советской литературы нет. А что тогда это было? Конечно, советская литература! Да, писатели вынуждены были считаться с какими-то нормами, придерживаться определенных догм, но так было во все времена: и при царе, и сегодня все то же самое. Попробуйте напишите, допустим, роман, в котором выведете в издевательском виде Сахарова. Вас тут же загонят за Можай, несмотря на то что у нас демократия. Всегда есть табу, просто в одну эпоху – это одно, в другую – другое. Но если человек действительно талантлив, чувствует и владеет языком, обладает образным мышлением, если он социально чувствителен и хороший рассказчик, этот писатель всегда преодолеет себя и свое время.
Н. М. Как себя проявляет молодежь, новое поколение, которое приходит в литературу? Есть ощущение непрерывности процесса?
Ю. П. Есть, конечно. Даже в самые жестокие времена, когда десятки писателей уезжали, все равно была эта непрерывность. Правда, сейчас труднее стартовать, особенно если занимаешься некоммерческой литературой. Ведь раньше была система поддержки писателей, и особенно – молодых.
Н. М. Юрий Михайлович, что сегодня вас волнует больше всего, о чем хочется писать, размышлять?
Ю. П. Мы ведь переживаем небывалую ломку, которая по своему трагизму вполне сопоставима с ломкой начала века. Все связано с колоссальной этической нагрузкой на личность – это касается каждого человека, каждой семьи, целых слоев населения.
Н. М. Практически каждого поколения…
Ю. П. Важно все это понять, запечатлеть, передать нравственный опыт времени. Я считаю, что миссия моего литературного поколения – оставить достоверный художественный отпечаток того, что сегодня происходит, потому что о нашей эпохе будут судить по книгам. С каким бы уважением я ни относился к кинематографу, в своей содержательной части он всегда вторичен по отношению к литературе. И современное кино – это движущиеся иллюстрации к современной литературе.
Н. М. Кинематограф вообще не оказывает влияния на писателя?
Ю. П. Это влияние вторично. В свое время западный кинематограф принес раскованность, какую-то свою моду. Но кино не может оказывать принципиального воздействия, потому что идеи, художественное видение, философское наполнение, стилистика – это все идет из литературы в кинематограф, а не наоборот. Кстати, во многом кризис отечественного кино был связан с тем, что была вытеснена литература. Кинематографисты решили, что обойдутся сами, что режиссер может написать сценарий. Выяснилось, что это не так. Потому что писатель придумывает «многоэшелонированную» историю, с которой сценарист всегда снимает только верхний слой. Тем не менее перенесенный в кинематограф даже этот верхний слой сохраняет клеточную память о той сложной структуре, которая была в литературе, и фильм снимается совершенно по-другому. А когда сразу пишется для кино, художественный ряд получается очень тонким, явно чувствуется отсутствие этой клеточной памяти. Некоторое время я работал на сериалах руководителем сценарной группы. Меня пригласили, так как оказалось, что модернистов у нас много, а людей, которые могут написать развернутый сюжет с несколькими линиями, где все поначалу расходится, а потом сходится, очень мало. Это обидно.
Н. М. Когда вы начинали писать, представляли, что ваши произведения будут экранизировать, думали об этом?
Ю. П. Нет, не думал и никогда не искал режиссера – они всегда сами на меня выходили. Потом, в постсоветское время, это были уже продюсеры, с которыми обговаривались условия. Почти все экранизировано, кроме «Демгородка» и «Апофегея».
Н. М. Вам в качестве сценариста приходится себя ограничивать, от чего-то отказываться?
Ю. П. Как правило, я всегда иду навстречу режиссеру, его пожеланиям, считаю, что кино – это искусство режиссера, который создает параллельный художественный мир по мотивам моего текста, и бессмысленно навязывать свою волю. У меня был случай, когда в 1988-м по повести «Сто дней до приказа» Хусейн Эркенов снял фильм, который вообще ничего общего не имел с моим произведением, хотя я и был соавтором сценария. Режиссер сделал то, что хотел, и снял авторское кино, самовыразился. Смотреть невозможно… Но я-то тут при чем? Тогда для чего нужна была моя повесть? Нашелся бы режиссер, снял бы традиционное кино, и фильм показывали бы людям до сих пор… Я хотел тогда устроить скандал, но меня стали уговаривать: пожалейте молодого талантливого режиссера, пожалейте Студию имени Горького! Пожалел. Зря, наверное. За самовыражение за чужой счет надо бить по рукам! Впрочем, никаких выводов для себя я не извлек и до сих пор, к сожалению, позволяю режиссеру делать то, что он хочет. Впрочем, не писатель, а сценарист должен трястись над каждой репликой своего сценария: ведь если она вылетит из фильма, то про нее никто никогда не узнает, за исключением тех, кто читает современные сценарии.
Н. М. А у вас есть ваши книги…
Ю. П. Конечно. Я вообще воспринимаю кино по своим произведениям, если хотите, как сверхрекламу. Благодаря ей читатель, который не читал мои книги, возьмет их и прочитает. Естественно, когда явная неудача, мне обидно. Но трагедии из этого я не делаю. Понимаю, что кино – это другая профессия.
Беседу вела Наталья МАЗУР«СК Новости», 16 октября 2003 г.Я бы создал «Партию российской государственности»
– Юрий Михайлович, сейчас много говорят о падении в обществе интереса к серьезной литературе и личности писателя. Но вот вас, по-моему, этот процесс успешно обошел стороной: вы – востребованный издателями и читателями автор. Один только роман «Козленок в молоке» выдержал уже 19 изданий, и тем не менее книги Юрия Полякова на прилавках не залеживаются. В чем вы сами видите секрет своего успеха?
– Я хочу сказать, что никакого падения интереса к литературе нет. Слухи о падении интереса к серьезной литературе и личности писателя распускают те литераторы, которые попали в достаточно пикантную ситуацию. Дело в том, что где-то с конца 80-х годов, последние лет пятнадцать, нам пытались привить американскую систему организации известности – американский пиар, когда имя и авторитет писателю дает, прежде всего, критика – критические статьи и премии. И у нас стала выстраиваться общая тенденция, когда наши оседлавшие общественное мнение и власть либералы и демократы решили все делать, как у американцев (слава богу, не сделали электроснабжение, как у американцев, иначе сидели бы сейчас в темноте). Они стали выстраивать эту систему, и отсюда возникло большое количество новых премий, создали когорту критиков, которые выстраивают свои обоймы. С помощью этой системы они раскрутили несколько десятков новых имен. Но механизм этот не заработал, потому что у нас другая традиция и у нас популярность, авторитет и имя писателю всегда давали читатели. Если они начинали следить за творчеством писателя, то ему не нужен был никакой критик. Не важно, есть у писателя премии или нет.