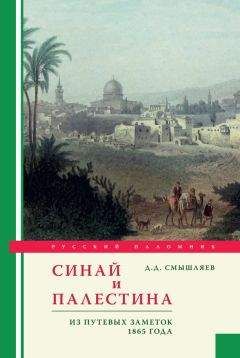И, как и всякий раз, когда Моисей вопиет к Нему, даже безмолвно, Господь отвечает другими словами или действиями, но то же самое по существу: Я буду с тобою…
И это конечное принятие Моисеем своего тяжелого пожизненного креста и ответное действие через него беспредельной силы Божией — сделает Моисея пророком, равного которому не было в Израиле до того времени, пока Господь не воздвигнет из среды его другого Пророка и Посредника, принявшего на свои плечи тяжесть всего человечества.
Как прообраз Христа Моисей на синайских иконах молод и красив — нетленной красотой чистоты и полноты веры. С жезлом этой веры, в которой действует Бог, совершает он Пасху и исход. Этим жезлом рассекает воды Чермного моря, чтобы через пустыню Сур привести к горе Божией пасомый народ, как прежде привел к ней стада. Этим жезлом должен высечь он из скалы воду и из окаменевших душ — огонь божественной любви…
Один богослов спрашивает: почему Господь не открыл Себя, например, Эхнатону — гениальному, аристократичному, утонченному, имеющему власть изменить что-то на земле? Это не праздный вопрос, хотя Бог и не призывает нас разгадывать тайны его судов о человеке и мире:
Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь.
Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.
Но этот вопрос тысячекратно будет повторяться в истории в более широком плане — как вопрос о том, почему Бог избрал еврейский народ, как вопрос о чьей-нибудь личной близости к Богу. И в поисках ответа мы снова касаемся великой тайны любви Божией:
Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных;
но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное;
и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением…
Так абсолютна Истина, которую являет Господь и так она абсолютно нова, что всякая земная малая добродетель, неизменно смешанная с грехом, всякая земная мудрость и любовь, высота и власть — только подменяют, заслоняют, отделяют от Того, Кто хочет Сам стать Освящением и Искуплением, единственной нашей Мудростью и Любовью.
Рассвет на вершине горы Синай
Владыка Дамианос сидит, откинувшись в кресле за большим письменным столом, заваленном бумагами. Жарко, и ворот его подрясника расстегнут. Я пришла в третий раз: раньше в кабинете сидели посетители, входили и выходили монахи, и я не решалась зайти.
— Да-да, — говорит он дружелюбно, — мы сейчас составим вашу программу.
С минуту он смотрел в окно, как бы раздумывая, потом замедленным движением снял очки, поставил локоть на кипу бумаг, и подперев щеку ладонью, со вздохом закрыл глаза.
— Вы устали… Можно прийти в другой раз? — Нет, — отзывается он тихо и очень спокойно, — мне сказали, что вы уже заходили… Простите, я мало спал, но все равно придется бодрствовать до вечера.
Без очков глаза его с чуть красноватыми и припухшими закрытыми веками кажутся незащищенными; седые волосы над большим лбом с чуть заметной волнистостью уходят назад и собраны в узел. Может быть, Владыка давно устал, за все тридцать два года в монастыре…
— С чего бы вы хотели начать? — спрашивает он, не открывая глаз и не меняя позы.
— С восхождения на Синай… — Мне страшно откладывать это: могут пойти дожди, я могу сломать ногу, заболеть, умереть, мало ли что еще может помешать. — Если это возможно…
— Это вполне возможно. Только надо решить, кого с вами послать. Дайте мне подумать до вечера. Начнем пока с других пунктов…
Он поднял голову, как бы восстав освеженным и обновленным после глубокого сна, надел очки, и стал перечислять все, что мне непременно следовало увидеть. Сердце мое возрадовалось: это была обширная программа, отмерянная щедрой рукой: и продолжение знакомства с храмом, иконами, библиотека, монастырские службы, скиты, Фаран и Раифа с их древними монастырями…
— На пик Моисея — три часа подъема… Светает сейчас около шести: выйти придется часа в три ночи.
— Может быть, раньше? Боюсь, что я не смогу подниматься слишком быстро… В два часа?
— Хорошо, в два. А через полчаса мы поедем по делам в поселок Санта-Катарина, если вам интересно посмотреть, подождите у ворот…
В середине дня мы возвращаемся из Санта-Катарины. Когда машина уже в километре от монастыря, впереди на обочине дороги появляются два путника в длинных черных одеждах. Один с посохом и рюкзаком за плечом; в фигуре другого есть что-то знакомое.
Отец Михаил остановил машину, путник склонился к боковому окну рядом со мной:
— О, Валерия… как вы здесь? — И тут же, взглянув на переднее сиденье и очень смутившись от того, что не его узнал первым: — А это, кажется, архиепископ Синайский?
— Кажется, это он, — соглашается Владыка, открывая дверцу.
Рядом со мной садится иеромонах Иоанн, духовник женского Гефсиманского монастыря в Иерусалиме. В Гефсимании я провела пять дней; каждый день отец Иоанн служил литургию, вместе с ним и монахинями я выезжала в Вифанскую детскую школу, в храм Александра Невского «на русских раскопках» у Судных врат, — но до сих пор мы не обменялись ни словом. В неизменной черной шапочке, надвинутой до бровей, с резкими складками у сжатого рта, он казался мне замкнутым, почти угрюмым. С другими говорил отрывисто и принужденно, а у меня не было повода для беседы с ним. Но встретившись в пустыне, мы обрадовались друг другу.
— Вы надолго? — спросила я по-английски.
— На два дня.
— Собираетесь подняться на пик Моисея?
— Да, и наверно, сегодня.
— Вот и славно, — полуобернулся к нему Владыка. — Пойдете вместе. Выйти нужно в два часа, потому что Валерия предпочитает ходить медленно; а вечером загляните ко мне, договоримся, кто вам откроет ворота. Кстати, разве вы не можете говорить по-русски?
Мы засмеялись: я забыла, что встретилась не только с православным священником, но с православным русским, хотя и принадлежащим к Зарубежной церкви: его затвердевшие в обличительном пафосе архиереи запрещали нам евхаристическое общение, но говорить мы пока могли на одном языке. Я испытала от этого особенное облегчение, потому что мой английский стоит мне большого напряжения и оставляет возможность общения только на самом поверхностном уровне.
Второй паломник, отец Георгий, прибыл из Джорданвилля, — он тоже принадлежит к Зарубежной церкви и тоже русский, но к сожалению, по-русски уже не говорит.
Около восьми мы встретились на плоской крыше какого-то строения, на которую ведут деревянные лесенки с третьего этажа от галереи и келлий для гостей, со второго — из приемной Владыки. Площадка ограждена перилами и выступом стены, похожим на парапет набережной, под которым протекает река жизни монастырского двора. Сюда же выходят двери канцелярии, келлий эконома и еще какие-то неизвестные мне двери, и площадка обычно служит главной сценой, на которой по замыслу режиссера появляются действующие лица.
С галереи снизошли отцы Иоанн и Георгий; заметив нас, по своей лесенке спустился Владыка. Появился эконом со связкой ключей — один был от церкви на вершине Синая, назначение остальных мне предстояло узнать по пути.
С глубоким волнением я следила, как воплощается замысел, недавно казавшийся почти безумным. Уже из разных концов света прибыли попутчики, уже позвякивают ключи… Очевидно, было над робкой моей надеждой благословение Незримого Автора наших жизней, и Своими таинственными путями Он привел каждого из нас на эту крышу, на несколько дней соединив нити судеб. Не так ли происходит и все на свете? — в круговороте кажущихся случайностей каждая судьба свершается так, словно именно вокруг нее вращаются миры. И только Творец содержит в едином космическом замысле все орбиты, прямые и ломаные, параллельные, пересекающиеся, касающиеся и расходящиеся линии судеб… Лишь в исключительные по напряженности часы мы ощущаем присутствие незримых сил, они проступают из-под покрова обыденности, — как магнит выявляет силовые линии в рассыпанных на листе опилках.
По лесенке снизу, постепенно обозначая свой отменный рост, поднялся послушник Николай, которому предстояло проснуться среди ночи, разбудить паломников и открыть ворота. Молодой англичанин, застенчивый и улыбающийся, он невнятно поговорил с Владыкой и вдруг вызвался идти с нами до конца. Эконом передал ему связку ключей.
Владыка вспомнил еще о чем-то и направился вверх. Вернулся он с фонариком и будильником и вручил их мне: будильник был поставлен на половину второго ночи.
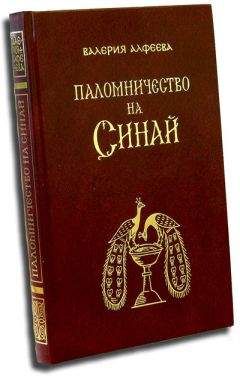

![Мак Рейнольдс - Божественная сила [Недремлющее око. Пионер космоса. Божественная сила ]](https://cdn.my-library.info/books/66923/66923.jpg)