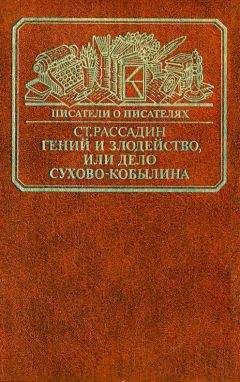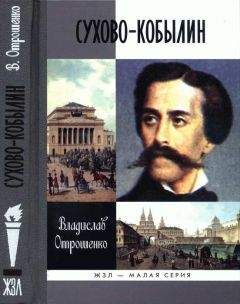Речи Константина Васильевича растеряны и уклончивы, рефреном звучит: «Люблю, но нужно терпеть и ждать». Счастье, к которому так стремились оба, ускользает, растворяется за неведомым горизонтом. Из Коктебеля в Феодосию, а затем в Москву летят письма-нервы – то щемяще-нежные, то обиженные, то напористые и требовательные. Порой кажется, что они не доходят до адресата – из-за почты, или их «перехватили», или случилось что-то непоправимое? В ответ – «как хорошо, что ты мне много пишешь», «будь покойна и не туши святой огонь искусства», «не теряй силы на всякие скверные мысли», «если я заболею, то А<нна> В<ладимировна> тебя вызовет, и ты приедешь» и т. д.
Это похоже на официальные сводки о войне, где скрывается все существенное, с горечью отмечает Оболенская: «Только там это делается для поддержания духа в народе, а твои уклончивые письма моего духа совсем не поддерживают, т<ак> к<ак> опасность я через них чувствую и только не знаю, где она. Точно мне завязали глаза и заставили биться с врагом»[57].
Иногда она взрывается на отсутствие внятного отклика на ее излияния: «Или я даром пытаю свою сердце и бумагу? Боюсь милый, что ты смотришь на них как на стихи и придаешь только мимолетное значение – скажи мне. Вот еще все советуешь наслаждаться природой. Как ты до сих пор не понял меня: без тебя нет солнца, нет моря – одно ожидание. Я ничего не вижу вокруг – без тебя»[58].
И действительно, для нее будто исчезло море, погасли горы, живопись превратилась в живописание любимого лица и доводит до галлюцинаций – все слишком напоминает о его отсутствии, если не об утрате.
С окружающими – Пра, Волошиным, Богаевским, Рогозинским – разговоры только о Кандаурове, в которых и эмоциональная разрядка, и поиск поддержки, подтверждения законности случившегося и признания союза, за которым расцвет и возрождение к новой жизни. «Они поголовно и не задумываясь за это наше соединение»[59], – уверенно пишет Юлия Леонидовна в одном из писем, но в другом проговаривается: «Макс<имилиан> Ал<ександрович> обо мне говорил, что я “заглатываюсь” после всякого порыва»[60]. И все же сочувствие, кажется, действительно на ее стороне: «Как дороги мне были две строки Толстого»[61].
Удивительно, как порой наши герои напоминают чеховских – драматической интонацией и самим строем высоких чувств, стиснутых обыденными обстоятельствами и бьющихся о них в ожидании светлого будущего и своего «неба в алмазах». Жизнь ли подражает искусству, искусство ли жизни – как знать, только эти «зеркала» – одно в другое – двойников создают неизбежно….
«То обновление жизни, которое у нас с тобой наступает, будет звучать торжественным гимном Тому, Кто нам ее послал. Если мы теперь все откладываем, то только потому, что ни ты, ни я не можем резко наносить удары другим. Время – всё! Верь так, как верю я, и все пойдет хорошо. Успокой меня, моя дорогая, – ведь мне нужно так много сил для борьбы и устройства новой жизни. Твое спокойствие даст мне эту силу»[62].
Через много лет в черновике своих воспоминаний Оболенская объяснит все просто, выбрав из писем Кандаурова самые прозаические и беспафосные строки: «Я не могу рассчитать рабочего; как же я могу бросить человека, по отношению к которому я взял на себя обязательства?» И добавит, что сожалеет об излишней своей «нервозности»[63].
Но эмоции, отловленные сетью букв, стенограмма чувств и обнаженная достоверность есть редчайшие свойства документального источника – «пыльца бабочки», микроистория души и путь к ее «воскрешению».
«Родной мой, ты добился самого трудного, невозможного – неужели не сумеешь взять его? Ты ведь тот же и силы твои – те же, я не сомневаюсь в тебе. Столько людей не находят любви вовсе, столько их находят неполную – то слишком отвлеченную, то слишком звериную, а тебе уже нечего об этом думать. Если верно то, что ты говорил о своей давнишней мечте, мечте всей твоей жизни, близкое которой ты во мне нашел, – то тем лучше. Значит, все готовилось издавна, все создалось твоей верой и теперь не может пройти мимо. Все равно что призрак, выдумку свою ты превратил в человека – и вот стала я – живая, воплотившаяся; я не мечта больше. Превратиться в ничто снова я не могу. Могу умереть, но все равно ты будешь знать, что я была живою. Ты пойми, что это почти колдовство. Так вызывают духов, но они остаются призраками и исчезают; я же воплощена теперь и исчезнуть не могу. И мне нет иного места, как возле тебя, это закон природы, я буду с тобой»[64].
Занавес.
Мы с тобой попали в мировую катастрофу. Все смутно сейчас и только одна любовь ясна и тверда.
К. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской. 20 июля 1914
Отъезд из Крыма слегка остудил сердца и головы, но разрушения, произошедшие на Киммерийском олимпе, оказались необратимыми. Его последствия еще долго будут обсуждаться в московских и петербургских квартирах и в письмах, связывающих многих участников. История уже изменила свой ход, и они – через свое личное, повседневное – сумели это почувствовать: «Какая цепь несчастий у всех, – пишет Оболенская Кандаурову 10 сентября 1914 года. – И то, что с нами происходит, я убеждена, имеет более глубокие корни, чем отдельная воля. Посмотри, сколько разрушилось семей – мой брат, Толстые, а сколько я вижу других, кого ты не знаешь. И новое вырастает из какой-то мировой глубины, м<ожет> б<ыть>, связанное где-то с войной, с какими-то неизвестными переворотами. ‹…› По правде сказать, трудно заниматься искусством, когда оно сейчас и вместе с людьми летит на воздух – соборы и музеи – так все хрупко»[65].
Жизнь менялась и в измененном виде входила в берега. Задерживались почта и поезда, случались перебои с водой и прислугой, беспокоили сводки с фронта и испортившаяся погода. Поменял имя Петербург, в Москве ходят слухи о переезде царского двора.
Коктебель опустел. В августе ушел на войну Богаевский. «Он сам того хотел, и значит нельзя, бессмысленно огорчаться, – пишет Оболенская, работавшая тогда над портретом художника. – И я должна дописывать спокойно портрет с лица, которого м<ожет> б<ыть> не увижу больше»[66]. Волошин находится за границей, а Елена Оттобальдовна подолгу живет у друзей в Москве, хотя и здесь неспокойно. Осенью «бикфордов огонь» добрался и до семьи Цветаевой – в жизнь Марины Ивановны входит Софья Парнок.
Толстой отправляется военным корреспондентом на фронт, унося с собой смуту нерешаемых отношений с Маргаритой: «… я люблю очень странную и таинственную девушку, которая никогда не будет моей женой»[67]. Перед отъездом он дарит свой портрет работы Николая Ульянова с надписью, которую Оболенская приводит по памяти: «Дорогой Костя, уезжая на войну, увожу с собой твою золотую улыбку. Когда лягу на поле брани с свинцом в груди, передай кому следует мой прощальный привет и поцелуй. Да здравствует русская армия! Ура!!»[68].
В домах женскими руками шьется солдатское обмундирование, собираются посылки на фронт. «Попала в разгар заготовления мешков с подарками: тут и мыло, и нитки, и пуговицы, булавки, иголки, чай, сахар, чего только нет. И будет это 200 мешков»[69], – сообщает Оболенская в Москву.
Патриотические порывы захватили многих, но за ними порой скрывалась попытка заглушить личные драмы и переживания. В напряженной ситуации треугольника и Анна Владимировна, и Юлия Леонидовна если не рассматривали, то героически примеряли на себя платье сестры милосердия. «…Я решила идти в сестры милосердия, – к ужасу своего адресата пишет Оболенская. – Не бывать мне женой и матерью – буду хоть сестрой»[70]. Однако усилия Константина Васильевича, а точнее его бессилие, проявившееся болезненной нервной экземой, привели к тому, что ситуация замерла в своей неопределенности то ли примирения, то ли данности. Анна Владимировна, настояв на годичном моратории в отношениях супруга с Оболенской, тем не менее предлагает… совместное проживание в одной квартире, что кажется вполне приемлемым и Кандаурову. Такой вариант будет опробован, но позже и без особенного успеха. Юлия Леонидовна пишет о том, что она повела себя как мать из притчи о Соломоновом суде, не желавшая, чтобы резали ее ребенка, – уступила, добавляя, что роль Соломона отчасти исполняли друзья: Богаевские, Волошины, Толстой.
В переписке непосредственные отклики на большие и малые события лета 1914 – начала 1915 годов представляют эмоциональное многоголосие и придают документальной хронике выразительные черты – реальности и почти литературного сюжета.
19 июля 1914. МоскваК. В. Кандауров – Ю. Л. Оболенской
Моя дорогая! Сегодня получил твое письмо, спешу тебе ответить, но не знаю, дойдет ли это письмо. Начну с дороги: сел в Феодосии, почти рыдал, на другой день тоже и только теперь пришел в себя.