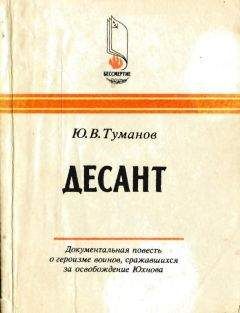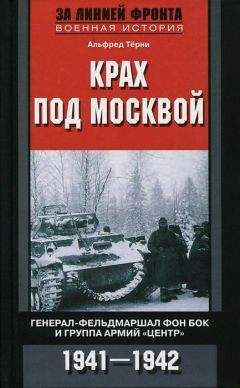Конечно, если кто и должен был живым выйти с десантом в тыл к немцам на Варшавку, так это он, Ненашкин. Вот он и стоит на ней твердо и уверенно, спокойно, вроде бы это не фашистский тыл, а наш.
Такого же роста мужик, что и Кузнецов, и комплекция та же, а не похож ничуть. Даже маскхалат, пузырящийся на нем, как и на Кузнецове, шаром его сделать не может. Отовсюду выпирают углы. И лицо хоть и в кругу капюшона, а квадратное.
— Людей? — опомнился Железняков. — Людей? Политрук, будь другом, выручи…
Еще бы не нужно было людей взводному Железнякову. Танки, подходя к шоссе и разворачиваясь для боя, стряхивали с себя десантников и ящики со снарядами для сорокапяток. Они разбросаны всюду. Орудийному расчету не собрать их до ночи.
Досадливо крякнув, Ненашкин посмотрел на часы. Времени в обрез. Покрутил головой — пошутил на свою голову, напросился, но решил, не отказал в помощи:
— Рррота, слушай меня! Пятнадцать минут на сбор снарядов.
А командиры взводов прокричали вслед за ним свое:
— Взвод…
— …пятнадцать минут…
— …собрать в поле все ящики со снарядами.
Справа — начальник политотдела 334-й дивизии полковой комиссар Никита Иванович Паращенко. Всю войну был фронтовым политработником. После войны — первый секретарь Витебского обкома КПБ, председатель Минского облисполкома, министр социального обеспечения Белоруссии. Умер и похоронен в Минске. Рядом — начальник клуба дивизии старшин лейтенант Жиравов. Снимок 1942 г.
Как муравьи разбежались в поле солдаты. Прошли вдоль следов танковых гусениц, по плечи завязая в снегу, ныряя в него, как в воду, со дна земного вытаскивая тяжелые ящики, сложили их у ног Железнякова. Охотно и домовито возились они с этим, последним, пожалуй, в своей жизни таким с виду мирным занятием. Отряхивали ящики от снега, располагали поудобнее для артиллеристов Впереди оставались дела сугубо военные — стрельба, раны, кровь, смерть своя и чужая.
— Спасибо, братья, — обнимали артиллеристы уходящих к Людкову стрелков. — Спасибо, век не забудем.
Недолгим оставался этот век. Почти никому из них не суждено было вернуться.
Но артиллеристы чувствовали себя перед стрелками чуть ли не предателями, будто действительно оставались в тылу: у мостика было так тихо, а пехота шла в сторону, где уже вовсю грохотала и гремела перестрелка.
Что такое два километра? Пустяк, не расстояние. Всего-то за ближние холмы ушла пехота, ушли танки, а кажется, будто закатились они за тридевять земель, бросив тебя один на один с чужою землей. И знает Железняков что земля эта совсем не чужая, его она, дедами и прадедами обжитая, но куда ни кинь взгляд, отовсюду похоже, устремлены на тебя холодные стекла чужих оптических приборов. Всей кожей ощущается это, заставляет ежиться, чувствовать себя неуютно и одиноко, будто загнали тебя под микроскоп и разглядывают беспомощного, как вредоносную бациллу. Железняков, оглядываясь, прикидывает — откуда смотрит фриц. Из Медвенки — это ясно, из Алферьевской — тоже: мимо них только что прорывались. Но тревогой жалит со стороны Адамовки, хотя вроде бы рано оттуда-то. И из рощи справа, куда фрицу ни на чем не попасть — целина непроходимая. Разве только разведка. Нет, чужая земля, чужая, хоть и своя.
Орудие расположил он на позицию в полусотне шагов от мостика на шоссе. Получилось будто на дне огромной чаши, перечеркнутой посередине Варшавским шоссе. В какую сторону ни глянь, до горизонта полтора-два километра. Конечно, лучше бы стрелять с высоты — с холма, с горы, но раз такого тут нет, сойдет как огневая позиция и гора наоборот — громадная воронка. Снизу вверх тоже все вокруг видно.
Первая цель пришла к орудию сама. С огромной скоростью, разогнавшись по крутому спуску шоссе, вынесся от Адамовки к мостику крытый брезентом грузовой «мерседес». Трое немцев — увидел за ветровым стеклом Железняков — весело смеялись, курили и руками отгоняли дым от шофера.
И вдруг под колесами задымился асфальт. Намертво охватили их надежные немецкие тормоза. Но инерция гнала грузовик к мостику.
Ужасом искаженные лица в кабине. Отставшие от рот красноармейцы, бросившиеся, выставив вперед оружие, наперехват автомашине. Все это одновременно схватил и прямым и боковым зрением Железняков, наклонясь к орудию.
Водитель уже начал разворот, не отрывая глаз от бегущих по шоссе пехотинцев и даже не глянув на свою смерть, в упор прищурившуюся на него черным глубоким зрачком орудийного жерла.
Какой-то миг Железняков медлил, держа руку на спусковом рычаге. Не по себе было. Как будто бьешь из-за угла, ножом в спину беззащитному. К тому же и пехота близко забежала сбоку. Он даже оглянулся на орудийный расчет. Но не увидел жалости на лицах, только ожидание. Тогда, обозлившись на себя, он рванул рычаг — стволом он автоматически все время сопровождал движущуюся автомашину. Действительно, нашел место для переживаний. Убитый сегодня враг не сможет убить тебя завтра.
Из кабины, окутавшейся дымом, не выскочил никто. Но через задний борт, стреляя на ходу, полезли гитлеровцы. И рухнули наземь два бойца, первыми подбежавшие с поля.
— Из-за тебя, гад, из-за тебя! — кричал себе Железняков, беглым огнем сажая снаряд за снарядом в неподвижный кузов и бегущих немцев. — Из-за тебя!
Все. Живых фашистов здесь нет. Десантники, облепившие машину, тащат из нее какие-то тюки, ящики, пакеты. Проходя назад мимо орудия, редко кто не крикнет артиллеристам слова одобрения: лихо, с первого снаряда застопорил лейтенант фрицевскую машину. А он и не слушает, не отрывает хмурого взгляда от медленно удаляющихся носилок — цены утраченного из-за сомнений мгновения.
— Танк! — разнеслось вдруг над дорогой. — Танк! Танк! Танк!
Действительно. Не зря кричит пехота. Не очень большой, однако какой-никакой, но танк возник на самом горизонте у Адамовки. «Два километра расстояния, — определил Железняков. — Полтора… Километр. Быстро идет. Под гору».
Ну что ж, пушка противотанковая, для того и поставлена, чтобы немецкие танки не ударили с тыла.
Непонятно сейчас, правда, где тыл, где фронт, в спину пехоте, в общем не ударили бы.
Танк этот шел не в бой. Он просто двигался по тыловой дороге, не особенно-то и приглядываясь к тому, что делается вокруг. Не в бой он шел, но был солдатом — немецкий броневой ящик. Стоило ему увидеть неестественно накренившуюся автомашину возле мостика и трупы немецких солдат рядом с нею, как сразу же водитель рванул тормозные рычаги, захлопнул лобовой люк — и танк замер в полной боевой готовности. Через мгновение по белым маскхалатам, по серому шоссе, по кустарнику за обочинами сыпанул разноцветными искрами раскаленного свинца танковый пулемет.
Он много мог принести беды, откуда ни возьмись примчавшийся танк. Он мел и мел трассирующими пулями вдоль дорога и хмуро поводил из стороны в сторону тонкой черной пушкой, намереваясь где-то ужалить побольнее. Но ему тоже не повезло.
Железняков резко махнул рукавицей сверху вниз: «Рушь!» И рухнула снежная «крепость», открывая сектор обстрела.
Ох, как ему хотелось выстрелить первым, вражескому башнеру. Как спешил он, крутя вправо башню и одновременно опуская, опуская, опуская орудийный ствол к цели, которая выскочила вдруг сбоку внизу, у самых танковых лап.
Шоссе замерло. Ни выстрела, ни звука, только железный шелест крутящейся башни.
Но не успел фашист. Выпущенный в упор бронебойный снаряд проломил тонкую боковую стенку.
Он еще двигался, этот ящик с черно-белым крестом и остановившейся башней, а уже было ясно — больше он не жилец на свете. И когда после третьего пушечного удара внутри его что-то гулко рвануло, башня, скособочившись, осела набок и он замер на месте, белые маскхалаты опять заполонили дорогу и налетели к артиллеристам обниматься.
И все-таки это еще был не бой. То есть не то чтобы не бой — были с обеих сторон убитые и раненые, но не сражение, а так, полигонная пальба. Сражение началось полтора часа спустя. Первыми просвистели в небе желтокрылые «мессершмитты». Пронеслись, полоснули вдоль шоссе пулеметами и исчезли. Двухкилометровый в длину островок, что он для скоростного истребителя — какие-то секунды лета. Но через минуту они вернулись, летя уже с меньшей скоростью и нацеливаясь на десантников с точностью выверенного немецкого механизма. И пошло, и пошло, и поехало.
Их, конечно, подняли в небо повыше: земля, ответившая пулеметным и ружейным огнем, была далеко не беззащитна. Сам капитан Кузнецов, приладив автомобильный руль к обломанному березовому стволу, ходил вокруг него, скользя стволом «Дегтярева» по черному эбонитовому кругу, зло и коротко бил в небо, пока, задымив, не отвалили в сторону два немецких истребителя а остальные не ушли искать цели полегче.
Не беззащитна, нет, но как же была уязвима для авиации многострадальная пехота, именуемая царицей полей.