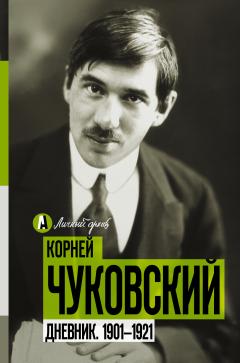И неужели Пушкин, гений лаконического слова, нарушил предписываемый ими режим экономии, когда создавал свои незабвенные строки:
Что пирует царь великий
В Питербурге-городке? —
хотя ему было отлично известно, что бург и означает городок.
И обвинять ли Некрасова в словесных излишествах лишь на том основании, что у него часто встречается вот такой оборот:
Слушал имеющий уши,
Думушку думал свою…
…………………………..
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою.
Конечно, нет! Если бы русский народ только и заботился, что об этой грошовой экономии речи, неужели он создал бы огромное множество таких расточительных выражений, как до поры до времени, век вековать, делать дело, рыдать навзрыд, лежмя лежать, белым-бело, полным-полно, т. д., и т. д., и т. д.
Ибо одно дело — экономия речи, а другое — скаредность, скряжничество, плюшкинское отношение к своему языку.
Языкотворцу-народу, великому художнику слова, мало одной рационалистической стороны в языке. Ему нужно, чтобы речь была складной и ладной, чтобы в ней был ритм, была музыка и, главное, была выразительность. Когда отец возмущен неблаговидным поступком сына, он кричит ему: «Стыд и срам» — хотя, конечно, отдает себе полный отчет, что слова стыд и срам в значительной мере синонимы. Но ему мало короткого односложного слова, чтобы выразить свое возмущение. Ему нужны три слова, и притом такие, которые в своей совокупности создают анапест (˘ ˘ ¯). И то обстоятельство, что оба слова начинаются единым звуком с, играет здесь немаловажную роль.
Стыд и срам! — это так выразительно, так безупречно по ритму и звукописи, что, право же, можно пренебречь тавтологией, тем более что вся эта двухчленная формула воспринимается как единое слово.
И представьте себе, что какой-нибудь политический деятель или участник научного съезда горячо сочувствует той резолюции, какая предложена обсуждению собравшихся. Он выходит на трибуну и заявляет взволнованно:
— Целиком и полностью разделяю те мысли, которые… и т. д.
Здесь опять-таки все дело в выразительности, в ритме и в благозвучии. Пусть полностью и значит целиком, но та единица времени, которую оратор истратит на произнесение первого слова, слишком мала для выражения эмоций, одушевляющих его в эту минуту. Здесь требуется не три слога, а по крайней мере семь или восемь. Оттого-то к слову целиком и присоединяется полностью, тем более что фонетически сочетание этих двух слов чрезвычайно удачно, не говоря уже о динамической ритмике (сочетание анапеста и дактиля: ˘ ˘ ¯ и ¯ ˘).[236]
Здесь одно из очень многих свидетельств, что живой язык никогда и нигде не строится по указке одного только здравого смысла. В его создании участвуют и другие могучие силы. Те горе-пуристы, которые думают, что они могут игнорировать эстетику речи, ее ритмико-фонетический строй, законы ее экспрессивности, почти всегда обречены на провал.
Вернемся на минуту к такому устойчивому сочетанию слов, как «враги убивают друг друга». Иному педанту, несомненно, почудится здесь величайшее нарушение здравого смысла:
— Не могут же враги в одной фразе называться и врагами, и друзьями!
Между тем здесь в высшей степени наглядный пример того, что бывают случаи, когда язык в интересах фонетики готов поступиться логичностью.
Друг — здесь явное сокращение слова другой. Вначале говорилось не друг друга, а один другого. Но один другого — несовершенно по звуку: вялая ритмика, шершавое ндр. Гораздо складнее и звонче: друг друга. Ради этого склада и лада народ отказался от осмысленной формы и предпочел ей такую, которая может показаться безумной.
Конечно, никто не спорит: язык — интеллект народа. Мудрая и строгая логика господствует в нашей лексике, в нашей грамматике, в их сложных и утонченных формах. Но грамматика не математика, и к ней неприменима сухая рассудочность.
«У языка, писал Белинский, — есть еще и свои прихоти, которым смешно противиться». Эти прихоти, если они узаконены временем, Белинский считал безусловно приемлемыми. «Употребление имеет права равные с грамматикою и нередко побеждает ее вопреки всякой разумной очевидности».[237]
Поэтому повторяю опять и опять: логика логикой, но не она одна формирует язык; какая, спрашивается, логика в том, что жителя Калуги мы зовем калужанин, жителя Томска — томич, жителя Пинска— пинчук, жителя Минска — минчанин, жителя Тулы — туляк, жителя Одессы — одессит, а жителя Самары — самарец? Откуда это разнообразие суффиксов? Почему в одном случае як, в другом — ук, в третьем — ит, в четвертом и в пятом — анин, в шестом — ец, в седьмом — ич? Никакой логики в этом разнообразии нет. Но, конечно, это вовсе не прихоть, а очень умелый отбор звуковых комбинаций, которые наиболее художественны.
Народный эстетический вкус действует здесь безошибочно. Всякие другие суффиксы были бы фонетически не пригодны для данного корня. К каждому корню прилажено именно то окончание, которое наиболее способствует изяществу данного слова. Жителя Пинска невозможно назвать пинскаком, а жителя Самары — самаритом. Никакими правилами грамматики нельзя объяснить этот вполне закономерный отбор именных окончаний.[238]
Язык отвергает всякую звуковую нескладицу и требует — настоятельно требует — наиболее гармонического сочетания звуков.
Конечно, ученые-филологи скажут, что дело здесь совсем не в художественности, а в законах фонетического чередования словообразовательных элементов (воображая, что так будет «объективнее» и «научнее»), но этим они нисколько не опровергнут моего утверждения, так как фонетика каждого языка является живым воплощением эстетических вкусов народа, выработавшего такую, а не другую фонетику.
Этим объясняется то, что русские люди, охотно употребляющие такие формы, как делая, танцуя, дыша, говоря, считают невозможным сказать: вия шнурок, пиша письмо, пья воду, тяня веревку и т. д. Во всех этих пья и вия нет изящества, нет благозвучия, и только поэтому они не вошли ни в литературную, ни в разговорную речь, хотя грамматически эти формы вполне правильны и ничуть не хуже других.[239]
Ради того, чтобы слова были ладнее, складнее и звонче, мы употребляем укороченную форму там, где этого требует ритм. Мы говорим «на босу ногу», хотя грамматика и требует босую; «средь бела дня», а не белого дня; «ни синь пороха», а не синего пороха; «никакого спаса от них нет» (вместо вялого и худосочного спасения); «сыр-бор загорелся» (вместо сырой бор).
И еще:
«По белу свету», «мал мала меньше», «лег костьми» (а не костями) и др.
Скажут: это древние, чуть ли не фольклорные формы. Но ведь такие же «усечения» слов ради энергии речи, ради ее склада и лада мы наблюдаем и нынче. Большинство русских людей в разговоре отвергает форму сто граммов и заменяет ее формой сто грамм, которая в настоящее время, возможно, войдет и в литературный язык.
То же стремление к складу и ладу, какое вызвало к жизни сто грамм, руководило русскими людьми, когда вместо заглавия книги «Сказки братьев Гриммов» они стали говорить и писать: Братья Гримм, «Сказки братьев Гримм».
И это не единственный случай. Вспомним, например, «Графа Нулина», который, по словам Пушкина, приехал в Россию
С романом новым Вальтер Скотта.
Почему не Вальтера Скотта? Ведь русская грамматика настоятельно требует, чтобы каждое иностранное имя мы склоняли точно так же, как русские: Джона, Матильды, Альфонсу и т. д. Почему же едва только наши предки узнали, что есть такой писатель Вальтер Скотт, они вопреки грамматике стали говорить не Вальтера Скотта, но Вальтер Скотта, не Вальтеру Скотту, но Вальтер Скотту и т. д.?
Здесь грамматика делала уступку фонетике. «Сказки братьев Гримм» оказались музыкальнее, звонче, ритмичнее, чем «Сказки братьев Гриммов».
Примеры крохотные, но доказывают они очень важную и притом универсальную истину, которую надо помнить, когда говоришь о чистоте языка. Грамматика гораздо чаще уступает фонетике, чем это представляется многим рационализаторам речи.