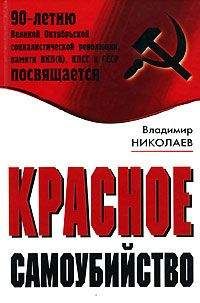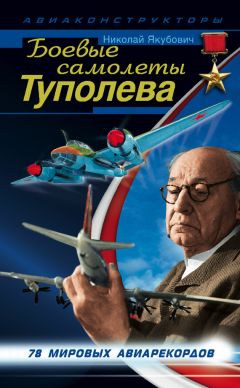На многие годы боевым знаменем нашей литературы стало знаменитое в свое время стихотворение М. Светлова «Гренада», написанное в 1926 году. Его лирический герой, красный боец, заявляет:
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, друзья!
Гренада, Гренада,
Гренада моя!
И это не просто декларация ради красного словца, нет, ни в коем случае! Читаем дальше:
Пробитое тело
Наземь сползло.
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел над трупом
Склонилась луна.
И мертвые губы
Шепнули: «Грена…»
Как тут не вспомнить другого литературного героя того же времени – Степана Копенкина из романа А. Платонова «Чевенгур», верного коммуниста, который на своем коне по имени Пролетарская Диктатура направился из России в Германию, чтобы там освободить от «живых врагов коммунизма» мертвое тело великой революционерки Розы Люксембург.
Светлов и Платонов совершенно по-разному относятся к этим двум своим героям, но зорко подмечают одно и то же характерное явление. Да, вот так оно и было. У нашего крестьянина нет ни земли, ни свободы, а мы собираемся освобождать испанского земледельца. Тот же Копенкин при всем своем большевистском ослеплении не может не видеть, какой разор царит вокруг него на Руси, а вот несет его в Германию! Но как его за это осуждать, если в те годы у нас призывали к всемирной гражданской войне, в которой мы, несомненно, победим и в результате «родится мировой СССР». В ходе грядущей войны с империалистами никто из нас не собирался обороняться, биться за свой дом, деревню или город, нет, этого и в мыслях не было! Все наши помыслы были об освобождении других народов, которым не посчастливилось жить под большевиками, под красным знаменем коммунизма, и которые просто с нетерпением ждут нас, своих освободителей.
Более агрессивного посыла не было даже у гитлеровцев! Ведь те сетовали на недостаток жизненного пространства для своего народа, на то, что Германию обидели, обделили, когда перекраивали карту мира после Первой мировой войны. А у нас своей земли и своих богатств девать было некуда. Тем не менее первого января 1941 года газета «Правда» прозрачно намекает своим читателям на то, что скоро советской власти на земле прибавится:
Наш каждый год – победа и борьба
За уголь, за размах металлургии!..
А может быть – к шестнадцати гербам
Еще герба прибавятся другие.
Напомним, что тогда в СССР входило шестнадцать республик, но нам и этого было мало! В том же номере газета, как бы открывая год 1941-й, доносит до читателей ту же мысль и в прозе:
...
«Велика наша страна: самому земному шару нужно вращаться девять часов, чтобы вся огромная наша советская страна вступила в новый год своих побед. Будет время, когда ему потребуется для этого не девять часов, а круглые сутки… И кто знает, где придется нам встречать новый год через пять, через десять лет, по какому поясу, на каком новом советском меридиане?»
Тоже весьма прозрачный намек на скорое большевистское господство во всем мире! Эту тему наша пропаганда постоянно подкрепляет своими предсказаниями о том, что трудящиеся всего мира вот-вот последуют нашему примеру, мы же обязаны им в этом только помочь. Так, в 1928 году самый популярный журнал в стране, «Огонек», публикует очерк под таким названием, какое уже не должно вызывать никаких сомнений: «Когда парижские рабочие восстанут», в нем, в частности, говорится:
...
«Буржуазия чувствует приближение своего конца. Она принимает меры для военной защиты от своего пролетариата. Подготовка к гражданской войне в настоящее время проводится буржуазией с небывалой энергией. Ленинский лозунг замены войны империалистической войной гражданской учтен буржуазией, и она готовится к восстанию рабочего класса одновременно с подготовкой новой мировой войны».
Эта цитата при всей ее беспомощности изложения и бессмыслице является весьма характерной для нашей пропаганды того времени. А вот еще един пример из поэзии тех лет:
Еще не все пороги пройдены
О, комсомолия, гранись,
Чтоб уничтожить имя Родина,
Названье жалкое границ!
Все ясно: ради костра мировой революции и Родину жалеть нечего – скоро весь мир станет твоей родиной! Такие посылы с годами совершенно естественно трансформировались из революционно-агрессивных в имперские.
Как же мы спешили к войне, к мировому господству! Не к обороне страны, а к самой откровенной агрессии, которую оправдывали тем, что осеняли ее красным знаменем. Сколько бы сегодня сталинисты этого ни отрицали, факты говорят против них, в том числе наше искусство тех лет и наша литература. Мы жили в атмосфере повседневной подготовки к будущим и скорым военным походам, обязательно победным, жили в атмосфере прославления силы оружия, человека в военной форме. Время давно развеяло ту невиданную рекламу милитаризма, но она осталась навсегда запечатленной на кинокадрах, на газетных, журнальных и книжных страницах, которые являются неопровержимым свидетельством наших истинных устремлений в канун Второй мировой войны.
Итак, нас воспитывали, как тогда считалось, строго в духе пролетарского интернационализма, который выражался прежде всего в идее мировой революции. Но, помимо школьных уроков и официальной пропаганды, существовала и окружающая действительность, она нас тоже воспитывала, но совсем не так, иначе. Нас учили, что мы несем всему человечеству мир и счастье, а вот наша повседневность с этим утверждением никак не гармонировала.
Наступила середина 30-х годов. Для нас приближалось время превращаться из мальчиков и девочек в подростков, взрослеть. Случилось так, что жизнь резко подстегнула, ускорила этот процесс.
Как-то перед началом уроков к нам в класс входят классный руководитель и старший пионерский вожатый. Непривычно для нас запинаясь, с трудом подбирая слова , учитель сообщает, что у нашей одноклассницы Наташи (к слову, очень милой и нежной девочки) отец арестован как «враг народа». «Но вы должны, – продолжает он, – по-прежнему хорошо относиться к Наташе, она ни в чем не виновата. Отец ее – это одно дело, Наташа – другое. Она была и будет членом нашего коллектива». На всегда розовых щечках Наташи проступают белые пятна, на глазах – слезы, тонкие белые пальчики стиснули черную крышку парты.
Это было первое и последнее подобное публичное, перед всем классом, объявление. Потом родителей моих одноклассников стали арестовывать одного за другим, об этом мы говорили между собой шепотом. Вскоре почти у половины ребят нашего класса отцы (иногда и матери тоже) оказались арестованы как «враги народа». Перед самой войной, в мае 1941 года, наш класс сфотографировался по случаю окончания учебного года. Никто тогда не думал, что это прощальный снимок. Кто бы мог предположить, что через несколько недель война разбросает нас во все стороны и другого такого снимка уже никогда не сделать. Я смотрю на эту фотографию сегодня и вижу – на этом еще довоенном снимке полкласса сирот! После XX съезда партии их родители все до одного были реабилитированы, но ни один из них не вернулся, ни один! Реабилитированы были уже не люди, а память о них. В те годы еще было далеко-далеко до 1956 года, до XX съезда партии, и слова такого, как реабилитация, не было в ходу. Мои вдруг осиротевшие одноклассники сразу повзрослели. В 12–13 лет на них обрушилось горе невиданное. Тем более для них страшное, что были они из семей более чем обеспеченных (это много значило в то полуголодное время), родители их были людьми более чем уважаемыми, относились к правящей элите, имена и портреты многих из них были знакомы каждому. И вдруг – «враг народа»!
Чудовищна была эта обрушившаяся на страну беда, которая в нашем лицее, наверное, проявилась резче, но она не обошла и простые школы. У нас ни ребята, ни учителя не изменили своего прежнего отношения к детям репрессированных. Настолько их вдруг стало много, этих «врагов народа», что ни разум, ни сердце, вероятно, не могли поверить в реальность и опасность «вражеских» происков. Не было страха перед тем, что вот такое обилие «врагов» тебя сейчас погубит, был ужас перед все нараставшей волной арестов, ужас, как во время стихийного бедствия, землетрясения, наводнения…
И уже в этом очень характерном штрихе – отсутствии страха перед «врагами народа» было заложено будущее разоблачение истоков трагедии, последовавшее только в 1956 году.
В 30-е годы «враги народа» официально, ежедневно и ежечасно, громогласно предавались анафеме. Но печатная и радиопропаганда в их адрес была настолько неистовой, оглушающей, что рассудок отказывался воспринимать ее. Необходимые для убеждения факты и доводы заменялись безудержной однообразной бранью.