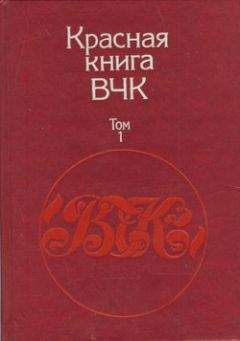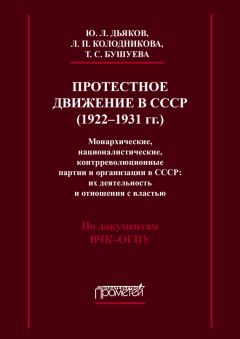С отъездом делегатов «Союз возрождения», как таковой, в сущности, перестал существовать в Москве. Партия народных социалистов лишилась в сентябре возможности открытого существования; большинство активных ее членов разъехались. Остались только отдельные ее представители, по существу своему мало пригодные для деятельности конспиративной, неизбежной при создавшихся политических условиях.
Что же касается до меня лично, то сентябрь – ноябрь с небольшим перерывом я сидел в тюрьме. При той общественной прострации, которая наблюдалась под влиянием террора, никакой политической работы, в сущности, вести нельзя было, и партия наша, можно сказать, вполне бездействовала. Мы не имели никакой информации от наших товарищей и только весной, по приезде А. Д. Бородулина, узнали, где они и что они думают.
До нас доходили слухи о колчаковском перевороте; при этих условиях мы тщательно избегали определить свою позицию и ждали прежде всего сообщений о фактах.
В целях информации и выявления общих точек зрения мы возобновили до некоторой степени прежнюю работу «Союза возрождения» и стали собираться вновь, пригласив с.-д. «Единства». Ни я, ни Карачевский не были уполномочены кем-либо. Никаких организаций, а тем более военных, мы не создавали.[71] Мы считали вредными всякого рода партизанские выступления, полагая, что время карбонарских заговоров прошло.
Я считаю необходимым усиленно подчеркнуть это.
Были попытки наметить программу возможного в будущем демократического союза, но из этой попытки ничего не вышло. (Те 4 пункта, на которых создавался «Союз возрождения», конечно, были недостаточны, тем более что при новой конъюнктуре отпадала Германия.)
Преимущественно мы занимались обсуждением той записки, которую предполагается подать Бернской делегации,[72]
Через Н. Н. Щепкина мы вошли в сношение с так называемым «Национальным центром», с организацией которого были весьма мало знакомы. Никто из социалистов, конечно, в «Национальный центр» не входил. Мотивами для такого рода сношений были следующие.
Приехавший с юга Бородулин нарисовал нам крайне мрачную картину Добровольческой армии, особенно ее верхов, прозванных там «Звездной палатой». Ясно было из его доклада, что оттуда ждать здоровое государственное начало не приходится. Полученные нами из Одессы газеты давали подробные сообщения о деятельности товарищей на Юге. Попытки их найти путь согласия между «Союзом возрождения» и «Национальным центром», так называемым Государственным объединением и «Земским городским бюро»[73] – вновь не увенчались успехом, наткнувшись на препоны в виде земельного вопроса и организации государственной власти. «Национальный центр» и Государственное объединение стояли на точке зрения необходимости военной диктатуры, с чем наши товарищи не могли согласиться. Обсудить те же вопросы и в Москве мы считали крайне целесообразным. На этой почве и возникли наши сношения с «Национальным центром».
О первом таком совещании, вероятно, и говорит С. А. Котляревский. Наиболее крайних взглядов держался Карачевский, – показывает Котляревский. Да, В. В. Волк-Карачевский высказался решительно против какой-нибудь диктатуры, вспоминая роль Кавеньяка и Мак-Магона[74] во Франции. Мою позицию Котляревский характеризует как более правую. Я считал невозможным высказаться против диктатуры в данный момент, когда мы не знаем, что делается у Колчака. Мотивировал тем, что диктаторов не создают, а они появляются сами. Их не признают, а они заставляют себя признать. Нам придется считаться с фактом. И, если факт будет налицо, наша задача, чтобы та или иная диктатура считалась с общественным мнением. До нас доходили сведения, что в правительстве Колчака находятся социалисты и «кооператоры». При таких условиях осуждения колчаковского переворота необсуждение конкретных условий, по моему мнению, было бы неправильно – мы в то время не знали о тех реакционных течениях, которые возобладали у Колчака.
Я всегда полагал своим долгом считаться с фактом и, учитывая уже совершившееся, определять тактическую позицию. Так и в октябре 1919 года при всем моем крайне враждебном, конечно, отношении к большевистскому перевороту я выступил в меньшевистском «Вперед»[75] с открытым письмом с призывом пойти на тот или иной компромисс. Для меня невозможны никакие соглашения лишь с тем, кто осуществляет террор, и красный, и белый – все равно.
Моя главная цель на указанном совещании была уведомить членов «Национального центра» не высказываться определенно за диктатуру, так как подобное осведомление нового Омского правительства[76] о мнениях некоторых общественных кругов Москвы могло бы только поддерживать авторитет правого течения Омского правительства. Цель моя была достигнута, так как в неофициальной резолюции совещания вопрос о диктатуре был обойден – следовательно, «Национальному центру» пришлось пойти на уступки.
Затем мне казалось, что расходиться в Москве из-за вопросов об образовании государственной власти где-то еще очень далеко от Советской России означало делить шкуру не убитого еще медведя. Неизвестно было, не будет ли правительство Колчака политической авантюрой. Мне казалось более важным обсудить ту социальную платформу, на которой мы можем сойтись, ибо здесь труднее всего было сговориться социалисту с представителями иного, так называемого буржуазного миросозерцания. Между тем без такого соглашения не мыслилось национальное единство. Отход демократии от более правых групп означал бы непременную реакцию в будущем. На юге это произошло.
Мы знали, что у «Национального центра» есть некоторые проекты государственного устройства в будущем. Мне казалось в высшей степени целесообразным обсудить их, дабы на реальных вещах выяснить свои разногласия и попытаться, если возможно, найти будущую позицию. Как показало совещание на Юге, это именно и было самое трудное.
Таким образом, выяснилась возможность некоторого контакта, по крайней мере, временного с «Национальным центром», если не в сфере действия, то в сфере переговоров. Мне представлялось крайне важным, так как те или иные уступки более правых элементов обязывали их, конечно, только до некоторой степени, в будущем (это мы прекрасно понимали – все дело было бы в силе демократии). Такое моральное обязательство связывало более или менее авторитетную группу, которой в случае изменения политических условий предоставлялось играть значительную роль, по всей видимости.
В это время Колчак становился реальной силой. Шло его головокружительное наступление. Происходило как бы признание его «верховным правителем» Антантой и подчинение ему Деникина. Мы хотели по этому вопросу скорее договориться с людьми из «Национального центра». Кажется, было еще одно или два аналогичных совещаний – хорошо не помню. Но, в сущности, мы никаких проектов не обсуждали и даже не стали вырабатывать какой-либо общей декларации.
Представителем «Национального центра» было признано опасным устройство таких больших собраний и было предложено делегировать от каждой группы по два человека, причем было предложено пригласить представителей бывшего «Совета общественных деятелей», державшегося точки зрения государственного объединения на юге. Отсюда и появилась та «шестерка», которая действительно фигурирует в показаниях, как «Тактический центр» – наименование совершенно неправильное.
Предполагалось, что представители групп будут здесь передавать точки зрения своих групп для осведомления и для передачи на обсуждение групп. Никаких решений здесь принимаемо не могло быть, да и фактически не принималось. Все сводилось, в сущности, к информации, так как и в данном случае тезисов социальных, экономических почти не обсуждалось. Я, впрочем, редко бывал, так как с апреля, говоря языком римлян, стал уходить в частную жизнь по причинам:
1) Три раза сидел уже в тюрьме – и мне надо было уезжать из Советской России, если я хотел заниматься политикой, так как был слишком на виду у ЧК. Но уезжать я не хотел, так как слишком органически был связан здесь делами, которые я в течение длительных дней создавал («Голос минувшего»,[77] «Задруга», свой архив), не видя себе применения на Юге, где «Звездная палата» решительно брала верх (например, расстрелян мой товарищ С. И. Ладинский), и, наконец, заканчивал большую историческую работу по эпохе Александра I;
2) Совещания «шестерки» были малоцелесообразны, то есть социалистам. Потому я и участвовал в этих беседах, что благодаря старым личным связям со всеми входившими в «шестерку» во мне видели не только социалиста, но и просто известного им Мельгунова. Никакого совместного действия при взаимном недоверии быть не могло;
3) Наблюдалась, в общем, полная апатия – и, в сущности, я не мог представлять собой никакой группы, даже энесовской, тем более что при отсутствии информации совершенно нельзя было выработать линию поведения: неясна была прежде всего позиция Западной Европы, решающая, с моей точки зрения, в окончательном счете. Быстрое уничтожение Колчака показало, что на Востоке не создалось народного движения.