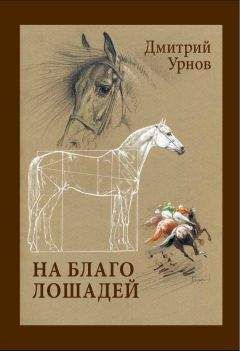Знаком он был со многими знаменитыми писателями, интересовавшимися скачками, дружил с Хемингуэем, а с Фолкнером даже сотрудничал, составляя отчет о Дерби в Кентукки за 1955 год, когда абсолютный фаворит Нашуа, от Назруллы, ко всеобщему изумлению, проиграл.
В этом человеке самое интересное было — это стремление понять другого. Видно это было хотя бы по тому, что иногда он честно говорил: «Этого понять я не могу».
Он меня спрашивал:
— Как же у вас скачки существуют без рекламы по телевидению?
Я объяснял. Он вздыхал:
— Трудно понять человеку со стороны.
Потом он спросил:
— Почему вы, советский жокей номер один, не приезжали до сих пор в Англию на скачки и сейчас приехали всего лишь на аукцион? Вы же победитель Кубка Европы, призер Вашингтонского Кубка и Триумфальной Арки, но в Эпсоме на Дерби не скакало от вашей страны еще ни одной лошади.
— Дерби — это Дерби. Воспитаем достойного участника — приедем. Но вы же, наверное, знаете, что троеборцы наши удачно выступали в Англии…
— Н-не знаю…
— Как это может быть? Вы же эксперт по скачкам!
— Вот именно! Мое дело скачки, и никаких троеборцев и конкуристов для меня не существует. Друг мой, вы не у себя дома. У нас каждый должен знать свое место. Что, трудно понять это со стороны?
И то же самое у нас с ним получилось, когда попробовал рассказать ему про лошадей, которых мы привезли на продажу. Корреспондент изменился в лице:
— Прошу, больше ни слова об этом. Хорош бы я был, если бы шеф узнал, что я тут с вами беседую о рысаках. Это же наши злейшие враги! Слава богу, их в Жокей-клуб не допускают. Я не понимаю, как вы могли приехать в компании с кучером и призовым наездником.
— Трудно объяснить человеку со стороны.
— О да! Это верно, хотя и грустно.
— А вам можно вопрос? — обратился к нему переводчик.
— Ради бога.
— Хемингуэй какой был?
— С ним было очень трудно, когда он бывал не в духе.
— А Фолкнер?
— Совсем другой. Но и с ним было трудно. Провинциален, болезненно застенчив, что было, конечно, оборотной стороной самолюбия. В скачках ни тот, ни другой не понимали ровным счетом ничего, хотя это не помешало им написать о лошадях прекрасные страницы.
Прощаясь, он сказал:
— Прошу вас, ни слова о том, что мы тут говорили с вами о рысаках.
В это время на дебаркадер прибыл конный автобус с надписью «Лошади Ротшильда». Эрастыч сразу угадал:
— От Веллингтона?
— О, маэстро! — эхом отозвались конюхи.
Тут подбегает какой-то толстяк:
— Вуколка!
Капитан говорит Драгоманову:
— Что я говорил, комендор?
Драгоманов молчит, а Эрастыч восклицает:
— Дядя!
Воняя сигарой и вытирая потный лоб, толстяк стал расспрашивать:
— Ну, Вуколка, как там наша Пальна? Чай, сожгли…
— Зачем же, дядя! Там по-прежнему конный завод, и я сам в нем тренером.
Лицо толстяка переменилось.
— А, стало быть, ты вроде Якова Ивановича.[27] П-предатели! Россию сгубили!
— А вы, дядя, — отвечал Эрастыч совершенно спокойно, — когда после бегов в Яре ночи прожигали и зеркала били, должно быть, спасали ее?
Дядя не ожидал, конечно, что племянник так резко примет и кинет его сразу корпусов на десять.
— Ну, брат, — пробормотал он, — ты, видно, приехал подкованный и по-летнему, и на шипы.
Чувствуя, что не попадает в пейс, толстяк взял на себя и сменил ногу, то есть сделал совсем другое лицо и начал не тем тоном.
— Вуколка, — почти прошептал он, — назови лошадок поприличней и цены, мне тут кое-кому шепнуть надо, за комиссию заплатят, а то ведь жить-то надо старику.
— Нам не жаль, — сказал Эрастыч, — но ведь лошади с молотка пойдут.
— Какая же фирма берет у вас? Васька, что ль, Выжеватов?
И как раз подъехал в автомобиле невысокий, очень гладко выбритый, средних лет человек и хорошо по-русски спросил:
— Что, ребята, укачало?
Наших лошадей сразу же начали выгружать и ставить в скотовозные фургоны с надписью «Wijewatoff».
— Пойдемте, ребята, — сказал хозяин, — по-нашему, по-русски, с дороги…
Приехали мы к нему в дом, он заговорил с женой по-английски, а она, улыбнувшись, сказала:
— Карашо!
Принесли поднос с бутербродиками.
— Эй, Василий Парменыч, — возьми да скажи ему Эрастыч, — это не по-нашему!
— Так, ребята, забыл! — засуетился хозяин. — Все забыл! А вернее сказать, и не знал никогда. Мы в российско-английской торговле со времен Ивана Грозного. Все лес да лен, лес да лен. Потом отец прибавил пшеницу и шерсть. А я вот еще и лошадьми занялся. Но я что, я ведь ровесник революции, мне и года не было, когда мы уехали. Так что и здесь я чужой, и родины я не знаю. Так вот, торгую только.
И опять обратился к жене по-английски, и она принесла еще один поднос.
— Жить, ребята, — сказал Выжеватов, — будете здесь же, у меня на ферме. Я хочу сказать — в хозяйстве. Лошадей слегка подготовим, подработаем и — торги. Работать-то кто будет? Или тренера надо нанимать?
— Какого тренера! — сказал Драгоманов. — У нас одни крэки! Это победитель Кубка Европы, мастер-жокей, а это, вы же, наверное, знаете, — Р.
— А, племянник, — отозвался сразу Выжеватов, — ну, знаете, — с дядей вашим сладу никакого нету. У нас тут, в землячестве, просто беда, или такое вот старичье, или же деписты[28] проклятые, а тоже в «русские» лезут, в «патриоты»! Но ничего, есть и стоящие люди, вы сами увидите!
— Ты, Николай, — говорил мне Выжеватов, — не смущайся. Если скучно будет — скажи мне, я тебя па большие скачки свезу. Тут Манчестер рядом и Ливерпуль, тут, брат, все рукой подать. Это вам не Россия. В Эпсоме сейчас по сезону ничего нет, но если ты хочешь турф, то есть круг скаковой, посмотреть, поедем, я свезу.
Но прежде нужно было, конечно, заняться делами. С утра начинали мы работать лошадей, которые за долгую дорогу успели порядочно одичать, а проще говоря, избаловались. У нас был форменный ковчег, конский заповедник, со всевозможными видами лошадей и езды. Фокин с доктором налаживали тройку. Вукол Эрастович приспособил себе в помощники переводчика, который раньше немного занимался в конноспортивной школе, а мы с Драгомановым готовили основное — молодняк на продажу. Сам я садился только на трудных лошадей, строгих и отбойных, а в большинстве ездили местные ребята — выжеватовские дети, которые не все, к сожалению, хорошо говорили по-русски. Но были они, в общем, такие же дети, только вместо «наш» говорили «мой». Но в остальном они как и наши, готовы были торчать на конюшне с утра до вечера и за счастье считали не только что поездить в седле, но хотя бы подержаться за повод.
Все вместе сходились мы иногда только за обедом и вечером, после уборки лошадей. Хотя Выжеватов и говорил: «Отдыхай, ребята, отдыхай, работа не волк, в лес не убежит», но хватка у него была хозяйская, и он следил, чтобы даром корм не проедали. Я бы не сказал, что работали мы больше обычного. Особенность заключалась в том, что работали беспрерывно. Я впервые испытывал это на себе. Прежде, когда мы за рубеж ездили, то мы были предоставлены самим себе и действовали по-своему — наваливались разом, а потом ехали в город. Но Выжеватов не гнал, он только не давал ни минуты сидеть сложа руки. Нередко мы говорим: «Ах, работа нервная!» Но тут было не то. Все время и на месте, однако чувство такое, будто нервы наматываются на ровно и медленно вращающуюся катушку.
— Ну, — вздыхал доктор, — у меня уже началось это, как его, капитан говорил, ностальгия!
— Эксплуататор ты, Василий Парменыч, и больше ничего, — со своей стороны добавлял Эрастыч, — старорежимник!
— Ребята, ребята, — твердил между тем Выжеватов, — кончил дело, гуляй смело, а нам надо всю программу выполнить. Ведь торги на носу!
Ради рекламы до начала торгов назначены были бега и парад реликвий. А еще раньше получили мы приглашение на торжественный прием по этому случаю, и в билетиках было указано: «Просьба быть вовремя и в костюмах для верховой езды». Это тоже для рекламы решено было проехать с особой церемонией по улицам города.
— Нет, — сказал на это Эрастыч, — Вукол Эрастович Р. клоунствовать не станет.
— Брось, — отвечал ему Драгоманов, — просто ты верхом ездить разучился и трусишь.
— Что?! — поднялся наездник-маэстро. — Да я еще в утробе моей матери…
— Про утробу твоей матери и все такое прошлое, — поднялся и Драгоманов, — ты лучше вон кому расскажи! — указал на переводчика.
Страшно побелел Эрастыч. Побелел и Драгоманов. Постояли они друг против друга, а вечером после уборки мы через стенку у конюшни (там же стены дощатые, не как у нас) слышали такой разговор: