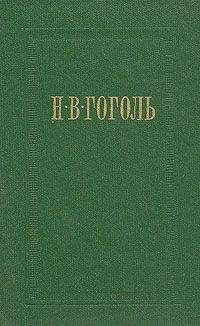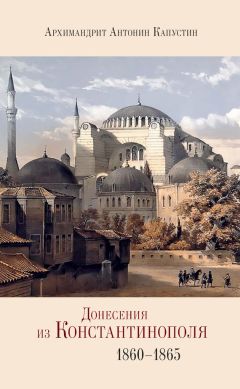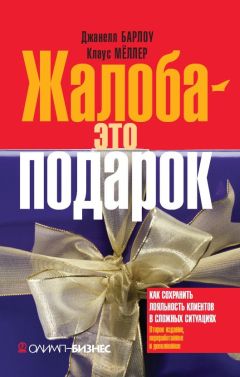После окончания войны с Наполеоном и передела границ к традиционным объектам политического наблюдения добавились новые российские подданные, к которым власть не питала доверия. Это, конечно, прежде всего относилось к уроженцам польских и литовских губерний. По высочайшему повелению опытные перлюстраторы были направлены в распоряжение В.С. Ланского, назначенного в 1813 году генерал-губернатором и президентом Верховного временного совета по управлению бывшим Великим герцогством Варшавским316. Не довольствуясь этим, главнокомандующий русской армией М.Б. Барклай‐де-Толли 22 марта 1815 года направил «отношение» литовскому и белорусскому военным губернаторам. В нем говорилось: «Как Польских войск офицеры и нижние чины <…> весьма в значительном количестве уволены от службы и отправлены в дома свои, состоящие не только в Герцогстве Варшавском, но и в других российских присоединенных губерниях от Польши, то по уважению настоящих обстоятельств нахожу я нужным иметь за поведением их бдительный секретный надзор». Вслед за этим белорусским военным губернатором принцем А. – Ф.‐К. Вюртембергским или его подчиненными было проявлено чиновничье усердие, не знающее пределов и не считающееся со здравым смыслом.
За подписью принца 13 апреля 1815 года было предписано витебскому гражданскому губернатору: «Также не излишним считаю, дабы Ваше Превосходительство известили по секрету почтовые конторы и экспедиции о сих людях [бывших военнослужащих польских частей наполеоновской армии], дабы письма их прежде отправления вскрываемы были, и если бы открылось в них какое сомнение… брать под арест тех, кои оказались подозрительными». Указание это далее было спущено с нарастающим идиотизмом губернскому почтмейстеру: «Чтобы прежде отправления писем от кого бы то ни было польской нации в заграничные места или в присоединенные от Польши губернии или же в Курляндию вскрывали на оных печати».
Растерянный витебский почтмейстер Л.С. Бордаков 18 апреля 1815 года обратился к своему прямому начальнику, литовскому почт-директору А.И. Бухарскому, за разъяснениями «о новом обращении с корреспонденциею; ибо когда подача простой корреспонденции бывает, нельзя тот час всякого подавателя узнать, какой он нации, и от себя или кого другого подает письмо, а также и означенных офицеров корреспонденции заметить, когда они через кого стороннего будут подавать, да и их самих каким образом узнавать, кто из них где служил, не имевши к тому случаев особливых». В данном случае здравый смысл рассуждений почтмейстера был воспринят начальством. В результате переписки между министром внутренних дел О.П. Козодавлевым и управляющим Министерством полиции С.К. Вязмитиновым из столицы последовало указание белорусскому военному губернатору, в котором отмечалась невыполнимость его требований317.
Подобным же образом, когда находившийся в Бухаресте российский генеральный консул Л.Г. Кирико по предписанию российского посла в Константинополе потребовал от тамошнего почт-экспедитора Российской почтовой конторы проводить перлюстрацию «некоторых лиц», О.П. Козодавлев 28 мая 1815 года доложил императору, что экспедитор не мог исполнить такого требования по ряду причин: перлюстрация учреждается по особым высочайшим повелениям; Бухарестская почта не имеет перлюстрации, ни знаний о том, как она производится, ни нужных для этого материалов. Поэтому министр предлагал командировать в Бухарест «знающих сие дело и надежных чиновников из Московского почтамта», отпустив необходимую сумму из доходов почтового ведомства. 16 июня это предложение было утверждено Александром I318.
Обстановку перлюстрации этих лет прекрасно характеризует уже упоминавшаяся переписка министра внутренних дел О.П. Козодавлева с управляющим Московским почтамтом Д.П. Руничем319. Особенно прелестна здесь некая патриархальность поведения двух высоких чиновников. Министр не то чтобы требует от подчиненного ему чиновника большего объема сведений, а апеллирует к его опыту, дружеским чувствам и призывает к большей инициативе. В одном из первых посланий, в сентябре 1813 года, Осип Петрович мягко напоминал, что «выписки, доставляемые вами ко мне всякую почту, без сомнения интересны, <…> но их переписка перлюстрируется по моему предписанию и открыта при вашем предшественнике». Далее он восклицал: «Неужели и любезный мой Дмитрий Павлович не может по соображениям своим обратить внимание на чью‐нибудь переписку? <…> Что до политических рассуждений касается, то полезно ведать, как об них у нас, а не в чужих краях рассуждают. Я бы желал, чтобы вы обще с г [осподино] – м Рушковским320 обратили на сие самое строжайшее и деятельнейшее внимание». Одновременно министр успокаивал своего подчиненного в отношении сохранения тайны: «Тайна, и самая непроницаемая тайна, долженствует быть наблюдаема; все таковые выписки у государя предаются огню, а также и у меня, а потому и следов никаких не остается. Разве бы случилось, что нужно такую выписку оставить для справок, что однако ж весьма и весьма случается редко, то таковая огню не предается; отпусков никаких не оставляется. Все сие для соблюдения верной тайны и вам делать надлежит». В заключение он предлагал, чтобы «по первому зимнему пути» И.А. Рушковский приехал в столицу и лично обговорил с ним все необходимые вопросы321.
В свою очередь Рунич жаловался начальству на трудности выполнения «деликатной работы». Тут и осторожность многих москвичей, не доверяющих почте, и пересылка в огромном пакете на имя кого‐либо из чиновников ряда писем разным лицам, и необходимость «снимать несколько оберток и делать слепки со многих печатей» при невозможности долго задерживать корреспонденцию на почте, а в результате «самомалейшее остается на перлюстрацию время». Тем не менее он заверял своего покровителя, что не оставит «всех усилий» своих, чтобы «соответствовать… желаниям вашего превосходительства». В последующем письме он предлагал министру для удобства проведения перлюстрации издать распоряжение по Петербургскому и Московскому почтамтам о запрещении почтовым чиновникам пересылать в своих пакетах «многие десятки писем», и тогда «никакое уже письмо не укроется от надлежащего наблюдения»322.
Через пару лет министр опять просил «любезного Дмитрия Павловича» «обратить самое живейшее внимание» на перлюстрацию. Министра особенно интересовало в тот момент, что и как говорят в Москве об иезуитах (за три недели до этого был издан указ Александра I о высылке иезуитов из обеих столиц), а также «и о других разглагольствованиях»323.
Тут же почтмейстеру протягивался «пряник» в виде обещания показать его письмо вместе с перлюстрацией государю, ибо, подчеркивал министр, «мое правило есть все подобное доводить» до его сведения. А далее Осип Петрович «отворял» подчиненному свое сердце, преисполненное любви к императору: «Сверх того, что я ему предан и люблю его от всего сердца, почитаю я для него нужным все знать, что говорят и как рассуждают»324. Как тут не вспомнить, что О.П. Козодавлев был не только важным чиновником, но и довольно известным литератором. Замечу также, что наряду с перлюстрацией министр просил Д.П. Рунича сообщать ему для государя, о чем в Москве «говорят и как рассуждают». Московский почт-директор, как видно из переписки, охотно выполнял и это пожелание325.
Власть теперь интересовали главным образом суждения и слухи «о правительстве и лицах в оном находящихся», а также факты злоупотреблений и притеснения частных лиц. Так перлюстрация приобретала некий благородный оттенок. В обстановке, когда воровство чиновников было обыденным делом, когда в салонах цитировали лаконичное описание Н.М. Карамзиным положения в стране – «Воруют‐с!», люди, вскрывающие чужие письма, могли успокаивать свою совесть сознанием важности и нужности этого занятия.
Министр вновь напоминал о сугубой секретности перлюстрации. «Надобно, – писал он, – чтоб никто не боялся сообщать через почту мысли свои откровенным образом, дабы в противном случае почта не лишилась доверия, а правительство сего верного средства к узнанию тайны». Для этого предлагалось все задержанные письма, копии и выписки, а также «рапорты по оным», когда надобность в них исчезнет, уничтожать, «так чтобы и следов сих дел не оставалось»326. Впоследствии, 31 января 1827 года, главноначальствующий над Почтовым департаментом князь А.Н. Голицын вновь просмотрел все секретные бумаги, касающиеся перлюстрации, сохранив только те из них, «кои признаны были еще нужными для справок, руководства и исполнения», остальные же были «преданы огню»327.
Таким образом, перлюстрация все больше становилась инструментом политического розыска и политического контроля. Правительство по мере формирования общества, отделяющего себя от государства, все более желало знать, о чем действительно думают его подданные. Поэтому первой заботой было сохранение строжайшей тайны секретного учреждения. Даже высокие сановники, получив в свое подчинение дело перлюстрации, были вынуждены выяснять у своих подчиненных правовые основы этого занятия. Например, личный друг Александра I князь А.Н. Голицын, добавив в 1819 году к своим многочисленным постам должность главноуправляющего Почтовым департаментом, просил литовского почт-директора А.И. Бухарского сообщить ему, «с которого времени, по каким предписаниям и на каковом основании и правилах» перлюстрация производится в подведомственных тому учреждениях. Подобное же донесение составил для князя петербургский почт-директор К.Я. Булгаков328.