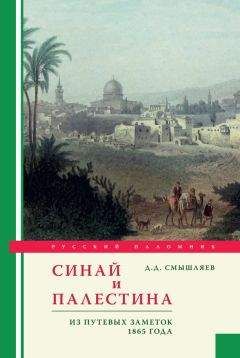Еще в юности получив в богатой и благочестивой семье религиозное образование, Григорий знал Писание и святооотеческие творения, и этим определился выбор его пути после плена. Он удалился на Кипр, где принял облачение в рясофор, а через некоторое время на Синай, и здесь его постригли в малую схиму или мантию. Несколько лет исполнял послушание повара, пек для братии хлеб, и на этом послушании был подобен священнодействующему у престола. Но при первом ударе в било он входил в храм и последним выходил из него после литургии. Строго постился, читал Священное Писание, предавался богомыслию или с каллиграфическим искусством переписывал богослужебные и святоотеческие книги, проходя их мыслью и опытом строку за строкой. Каждый вечер он с сокрушением исповедовал игумену грехи и греховные помыслы. Ночи проводил в молитве и иногда прочитывал всю Псалтирь, а днем, утомленный физическими и духовными трудами, любил восходить на вершину Синая.
В жизни, принесенной Богу, как целая свеча, была полнота посвящения. И уже в ранние годы его чистая душа познала благодатные озарения Святого Духа.
Оставим биографам внешнюю канву судьбы. В нее вплелась и зависть монахов к доступной не каждому погруженности в познания и молитву, уход из Синайского монастыря вместе с любимым учеником Герасимом, посещение святынь Иерусалима, отшельничество в пещере на Крите. Здесь по повелению Божию Григория посещает боговдохновенный исихаст Арсений и сообщает свой аскетический опыт, возводящий от деятельного подвижничества — к истинному трезвению, очищению сердца и непрестанной Иисусовой молитве — к созерцанию. Так открывается делание, простирающееся до последних ступеней лествицы монашеского восхождения, до небесных врат…
Он посетил все афонские монастыри и отшельников в скитах Афона, но большинству из них созерцательная жизнь была недоступна или совсем неизвестна. Григорий с немногочисленными учениками построил здесь скит, в отдалении — келлию и уединился в ней для безмолвия.
Впоследствии, в главах «О заповедях и догматах» он будет писать о том, что вера может быть двоякой, различаясь на умственное исповедание догматов и непосредственное причастие благодатной силе Божией. «Ибо, — как говорит святой Иоанн Богослов, — закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа», и познание Истины есть достояние тех, кто вкусил ее жизнью, в ком эта благодатная сила действует, светит, чудотворит, совершая то, чего сам человек совершить не может. В первозданной райской чистоте душа видела Бога, Им была блаженно наполнена, этой божественной сладостью и любовью жила. В падшем состоянии, в ее теперешнем «естественном» состоянии, то есть именно противоестественном, безблагодатном — душа мертва, как тело без души, не просвещена Святым Духом и непричастна жизни Христа и Его воскрешающей силе.
Возвратный путь в рай открывается очищением сердца, поэтому добродетели есть задатки небесного царствия, а пороки — задатки адских мук. Но сердце нужно очистить не только от страстей и греха, — чтобы узреть Бога, оно должно освободиться от всякого помысла, желания, состояния, образа: Это высшее отречение — внутреннее после внешнего, всецелое восторжение душевных и умственных сил к познанию славы Божества.
Причастен к славе Христа тот, кто воспринял, как Лазарь, дар воскресения — таинственное обожение. Молитвенное прошение об этом даре — непрестанная и глубинная сосредоточенность на призывании имени Божия: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Святой Григорий повторяет слова Иоанна Лествичника: «Иисусова память да соединится с дыханием твоим, — и тогда познаешь пользу безмолвия».
И однажды Господь отозвался на моление преподобного Григория озарением и воспламенением его души неисповедимым божественным животворящим светом. Внезапно он увидел, как вся келлия его была залита волнами этого благодатного света, душа исполнилась неизреченной райской радости; и от благодарной любви глаза не могли удержать потоков слез.
А когда он вышел из своего безмолвия к ученикам, лицо его хранило отсветы невыразимого и нездешнего блаженства, как сияло некогда отражениями божественного света лицо Моисея, сошедшего с Синая.
Святым всех времен дано вкусить и увидеть, как благ Господь, и исповедать эту тайну.
Внутри поклоняюсь Тебе и вдали Тебя вижу,
В себе Тебя зрю и на небе Тебя созерцаю!
Но как происходит сие? Ты один только знаешь,
Сияющий в сердце, как солнце, в земном — неземное.
…Болезную я и страдаю смиренной душою,
Когда в ней является свет Твой, сияющий ярко,
Любовь для меня непрестанной становится болью;
Страдает и плачет душа, потому что не в силах
Тебя я обнять и насытиться, сколько желаю.
Но так как я вижу Тебя — мне и этого хватит,
Мне славой и счастьем и царским венцом это будет,
Превыше всего, что желанно и сладостно в мире.
Подобным меня это Ангелам Божьим покажет,
А может быть, большим их сделает, о мой Владыка!
…Вкусив Твою плоть, приобщаюсь Твоей я природе.
А значит, и сущности, Боже, Твоей причащаюсь,
Наследником Бога и общником Божьим бывая.
И, будучи в плоти, являюсь превыше бесплотных,
Я сыном Твоим становлюсь, как сказал Ты,
Не духов бесплотных, но нас называя богами:
«Сказал Я: вы — боги, Всевышнего все сыновья вы».
Ты — Бог по природе, но сделался Ты человеком,
И тем и другим неизменно, неслитно оставшись.
Я — смертный и тленный, но Ты меня богом соделал,
Как сына приняв и Твоей одарив благодатью,
Мне Духа Святого послав и, как Бог всемогущий,
Природу и сущность таинственно слив воедино.
(Преп. Симеон Новый Богослов. Божественные гимны Пер. с греческого иеромонаха Илариона Алфеева.)
Долина Леджа и Монастырь сорока мучеников
Впереди, гордо подняв голову, шагает верблюд с небольшой поклажей. За ним, придерживая повод, идет монах Федор — богатырского роста, в подряснике и бедуинской накидке с черными клетками. Пока он навьючивал верблюда, я надеялась, что поеду верхом и на малую часть пути смогу уподобиться прежним паломникам, но монах говорит, что верблюд понимает только по-гречески. То догоняя, то чуть отставая, движутся отец Михаил и супружеская пара из Греции. Я иду между отцом Федором и паломниками, чтобы не мешать ему молчать, а им оживленно разговаривать на родном языке.
Как часто в эти дни, ко мне возвращается ощущение чудесной нереальности происходящего. Зеленая долина Леджа огибает Хорив и тянется цепью роскошных садов по направлению к горе Святой Екатерины. Прохладный ветер дует навстречу нам по ущелью. По обе стороны высятся изломы светло-коричневых гор, фантастические нагромождения скал, будто сорванных и разметанных давним землетрясением. И первая череда садов за каменными оградами колышет серебристо-дымчатые листья олив.
Миновали огромный камень со светлой полосой сверху вниз, похожей на след потока, с несколькими выемками, напоминающими уста — местное предание говорит, что ударами жезла Моисей извел воду именно из этого камня. Я узнаю его по рисунку в книге епископа Порфирия и помню рассуждение о недостоверности указанного места: камень лежит совсем отдельно, и изведение из него воды было бы неоправданным нарушением законов, изданных природе Самим Богом, чем-то вроде фокуса; скорее, чудо состояло в изведении глубинного потока. Приняв это рассуждение, я обхожу камень вокруг из любопытства, но без благоговения.
Интересно продолжить это размышление о пределах и внутреннем обосновании, оправдании чудесного. С одной стороны, там, где Бог хочет, нарушаются законы естества; с другой, невольно вспоминаются слова;
…Не нарушить пришел Я, но исполнить. То есть, закон нарушается, не разрушаясь, а словно исполняясь в высшей, превосходной, еще небывалой мере, являя действие свое в иной системе измерений, где пересекаются параллельные прямые, в ином бытии, где время переливается в вечность, вода жизни превращается в вино таинства, болезнь исцеляется чудом прощения, слепота отменяется прозрением, умножение хлебов прообразует Евхаристию, таинство смерти исполняется и завершается воскресением… Всемогущество Божие явлено в необычайном, великом, страшном, но совершаемом во имя любви и спасения, и в чудесах уже осуществляется обетованное Царство. Священная история, начатая преображением Израиля с его страстями и преступлениями — в народ Божий, продолжается в каждом чуде обретения веры и в судьбах народов.
Проходим мимо заново отстроенной при дороге церкви святого Онуфрия. За ней высятся итальянские тополя, трепещущие золотой и зеленой листвой. Еще недолгий переход, и за оградой уже тянется сад монастыря Сорока мучеников с его тысячью оливковых деревьев.
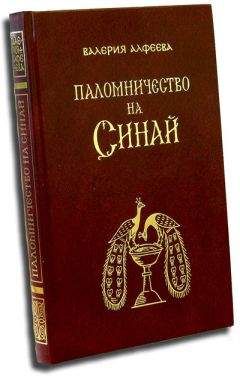

![Мак Рейнольдс - Божественная сила [Недремлющее око. Пионер космоса. Божественная сила ]](https://cdn.my-library.info/books/66923/66923.jpg)