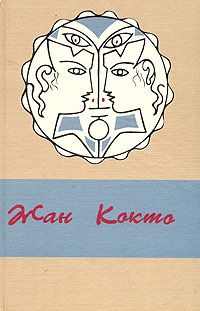В дневниковых записях Кокто мы находим следы внутренней борьбы, описание каждого этапа трудной работы. Автор уговаривает сам себя, дает самому себе приказы и советы.
«Рьяно набрасываться на то, что не поддается. Никогда не оставаться без дела. Создавать выразительные формы значит рождать на свет предметы, живущие собственной жизнью, более нам не подчиняющиеся. У людей мания считать, что они „переживают кризис“. Какой кризис? Только кризисы и существуют. Без них ничего бы не было. Если я размышляю, то размышляю плохо. Лучше всего не думать ни о чем. Смириться с пустотой. Ждать. Колетт права: лентяй из меня никудышный. Ничегонеделание, к которому я себя принуждаю — настоящая пытка. Убивать гордыню. Каждый вечер говорить себе, что ты ничто, и то, что пожинаешь, уже невероятно. Меня всегда спрашивают, есть ли у меня секрет (моей силы). У нас выпытывают секреты с настойчивостью Далилы. Да, у меня есть секрет. Но если бы я его сказал или написал, даже в этом дневнике, он перестал быть секретом и я потерял бы свою силу. Выходя из ресторана, Пикассо спросил меня: „Ты всегда делал, что хотел?“ Я ответил, что часто задаю себе этот вопрос. Журналисты: „Что вы готовите?“ „Ничего“. „Над чем вы работаете?“ „Не над чем“. „Тогда что вы делаете еще?“ „Ничего. Пытаюсь жить“».
На склоне лет Жану Кокто стало казаться, что он безумно устал, что его труд бесполезен, что никто и никогда не сможет его понять. В подобные моменты перо выскальзывало из рук, и поэтом овладевало отчаяние. Но подобно Паскалю, всю жизнь страдавшему от мучившей его неизлечимой болезни, Кокто осознавал, что страдания обостряют чувства художника:
«Проблема болезни — это проблема души. Думаю, что мы все пользуемся одним и тем же горючим как средства передвижения. Они бывают разные, есть автомобили и самолеты. Единственная разница между машиной и нами в том, что наша машина становится более хрупкой, если организм устроен не так, как остальные, и усложнен некой разбалансировкой».
Бытие Кокто было настолько насыщено людьми, событиями, и, главным образом ежеминутным творчеством, что иногда силы покидали его. Не раз опускались руки, и даже помыслить о чем-то новом представлялось невозможным.
«Сочинять — значит сближать два настолько различных и отдаленных друг от друга предмета, что никто на свете не мог вообразить такого сближения. Понять — значит допустить такое неожиданное сближение и сразу увидеть суть нового предмета, родившегося от этого брака. Вот уже сорок лет, как я засыпаю вечером, чтобы забыть этот мир, и, вставая, заставляю себя ломать комедию хорошего настроения. Больше нет сил. Я никогда никого не оскорблял. Большинство восхваляемых произведений я считаю посредственными и смешными. Я совершил ошибку, веря в некую справедливость, возникающую помимо человеческой. Я ошибся. Если мне случится что-нибудь еще написать, это будет из гигиенических соображений, и я не буду ждать никакого ответа».
Эти строки написаны в августе 1953 года, в трудную минуту. Однако, справившись с недугом, он снова и снова возвращается к своему принципу, изложенному в послесловии «Трудности бытия»:
«Вперед, неустрашимый и неразумный! Рискни быть до самого конца».
Всю жизнь Кокто играл со смертью. Ему нравилось умирать на сцене, например в роли Меркуцио в обработке «Ромео и Джульетты» в 1925. Он утверждал, что ему часто снилось, что он умирает по-настоящему. Его приводили в восторг слова, обычно произносимые костюмершей: «До смерти месье Кокто», «после смерти месье Кокто». Он очень смеялся над ужасом Элюара, увидевшего в 1942 году фильм «Барон-призрак», написанный для Сержа Полиньи, где Жан Кокто играл барона и превращался в прах на глазах у изумленного зрителя. Элюар кричал: «Я никогда не осмелился бы сыграть такое». Кокто всегда ощущал полноту жизни и полноту смерти. Однажды, будучи на фронте во время Первой Мировой войны, он подобрал фигуру Христа, упавшую с алтаря. У Христа отломалась рука, и Кокто отправил статую на машине для настоящих раненых.
«Любое произведение посмертно. Как только вы ставите слово „конец“ в заключительной части, произведение умирает, и вы умираете для него. Что-либо менять — все равно, что копаться в вещах усопшего, совершать святотатство», — писал Кокто.
ОПИУМ
«Когда я страдаю, я прячусь. Я равно никогда бы не посоветовал работать ни под боль, ни под музыку в ресторане. И та и другая возбуждают, вынуждают считать внешние капканы нашими собственными. В сущности ни опиум, ни его отсутствие не вызывают грез, в крайнем случае — сбои у стрелочника. Опиум приводит в порядок нервы. Одним он предлагает легкую пробку, другим дает свинец. Благодаря ему я обретал контакт с земными предметами. Жаль, что наше слишком непрочное устройство плохо переносит подобное усовершенствование».
(Из предисловия к «Психиатрической лечебнице» с 31 рисунком Кокто. 1926.)
Жан Кокто был очень нервным ребенком. В своем раннем произведении «Потомак», он признался, что в детстве ему давали маковый порошок, чтобы успокоить. Однажды аптекарь ошибся и дал ему кокаин.
«Можно ли забыть эти симптомы? Вены напрягаются, кровь сбивается с пути, некая неподвижная зона сковывает члены, сердце бьется, пытаясь убежать, стучит в грудь и немеет. Комок тревоги в горле. Горькая паста на твердом языке. Чужие зубы. И в сумерках — шум травы, когда нам кажется, что кто-то что-то шепчет».
Упоминания о первых опытах курения можно найти в романе Кокто «Самозванец Тома» и поэме «Мыс Доброй Надежды» Когда в юности Кокто сбегает из дома, мать не слишком волнуется за сына. Наоборот, в письме от 19 ИЮНЯ 1916 года, она пишет:
«Я порадовалась тому, что ты рассказываешь о трогательной забаве, которой ты предаешься вместе с моряками».
Многие исследователи творчества Кокто полагают, что он закурил бы так или иначе, поскольку в его окружении было немало людей, уже пристрастившихся к опиуму. Одна из книг, вдохновивших Кокто на создание «Опиума», — исследование Лорана Тайада «Черный Идол, эссе о пристрастии к морфию», опубликованное вначале в журнале «Меркюр де Франс» в 1907 году, а затем вышедшее книгой в 1920. В небольшого объема очерке автор повествовал об ужасах наркотиков, к которым он вынужден был привыкнуть. Дело в том, что в 1894 году Тайад стал невольной жертвой террористического акта анархистов: он лишился глаза и руки. Тайад предостерегает молодежь от невоздержанности в употреблении кокаина, опиума и морфия, а также от романтизации «божественных веществ».
Кокто закурил серьезно в декабре 1923 года, когда внезапная смерть юного Раймона Радиге, самого близкого Кокто человека, погрузила его в полное отчаяние.
Из письма Кокто аббату Мюнье, написанного в сентябре 1924:
«Я вступаю в ужасную жизнь. (…) Дружба, небо больше мне не помогают. (…) Мне стыдно чувствовать в себе весь тот мрак и все те миазмы, которые я сам ненавижу. Я страдаю днем и ночью. Я больше не буду писать».
«Смерть Радиге прооперировала меня без хлороформа. Один заядлый курильщик протянул мне трубку, видя, как я страдаю» (из письма Жаку Маритену). Этим заядлым курильщиком был Луи Лалуа, образованный музыкальный критик, знавший греческий, русский и китайский. Чтение китайской литературы привело его к опиуму. В 1913 году он опубликовал «Книгу Дыма», где не возражал против распространения опиума в послевоенной Европе. Лалуа мирно покуривал по воскресеньям в кругу семьи и Кокто, вероятно, иногда участвовал в подобных собраниях.
Вначале, по свидетельству многих его друзей, Кокто сам признавался, что чрезвычайно болезненно привыкал к опиуму.
В июле 1924 года, уже пристрастившись к опиуму и по-прежнему страдая от потери Радиге, Кокто идет в гости к Жаку и Раисе Маритен, чете католиков, тесно связанных с артистическими парижскими кругами. Жак Маритен преподавал философию в Католическом Институте Парижа и к тому времени был заочно знаком с Кокто по некоторым его произведениям, которые цитировал в ставшем знаменитом исследовании 1919 года «Искусство и схоластика». Впоследствии Кокто посвятит Маритену романы «Самозванец Тома» и «Двойной шпагат». Переписка Жана Кокто с Жаком Маритеном прервется только со смертью Кокто в 1963 году.
Встреча в Медоне с Маритенами имеет непосредственное отношение к написанию «Опиума», поскольку в течение почти двух лет Кокто искренне пытался излечиться от горя двумя способами — религией и наркотиком. Именно чета Маритенов и друг поэта — Макс Жакоб уговаривают Жана Кокто весной 1925 года на месяц лечь в клинику и избавиться от опиумной зависимости. Во время лечения Кокто создает серию жутких рисунков, иллюстрирующих его состояние. Затем, в середине мая того же года он проходит период реабилитации в одном из версальских особняков.