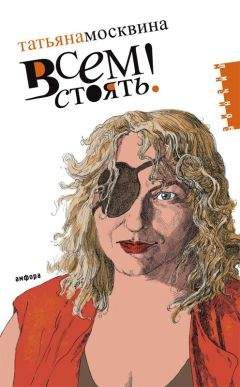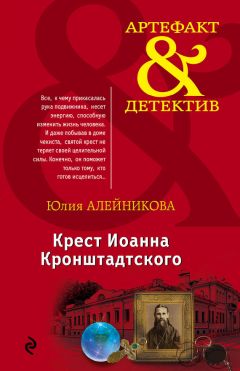В последнее время несколько раз, вразрез с профессиональным долгом, мне приходилось покидать театр, не досидев до конца действия. Я ухожу с премьерных спектаклей Мариинского театра, с русских опер. Для человека с острым и развитым чувством национального видеть новую «Снегурочку» Римского-Корсакова или современного «Ивана Сусанина» Глинки – мучительно, невыносимо. И довольно грустно читать после этого изверченные-закрученные тексты лукавцев, которые что-то там отыскивают необычайно новаторское и потрясающе осмысленное.
Все оперные критики обеих столиц занимают примерно половину одного ряда партера. Вот цель усилий постановщиков новой русской оперы – понравиться испорченному вкусу двадцати пяти человек. А дальше – целый зал обыкновенный людей, не знатоков и не профанов, которые что-то видели, что-то слышали, что-то читали. Им не нужны пряности, им нужна вкусная и здоровая пища, которую для них припасли когда-то Глинка и Римский-Корсаков. Они пришли на русскую оперу – и звуки, которые они услышат, наверное, совпадут с желаемым. Но не действие. То, что происходит на сцене – фантастично полной своей бессмысленностью.
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин») Глинки, постановка и оформление Дмитрия Чернякова. Спектакль начинается с того, что Сусанин строгает доску рубанком, а сверху висит чешская трёхрожковая люстра. Все детали (хлипкие дачные двери, к примеру) указывают – перед нами шесть соток времён Брежнева. На сцене – белый гипсовый муляж рогатого лося, типа как в пансионате «Заря» советских времён. Так, но если перед нами шесть соток и 74 год, то кто захватил Кремль? Там ведь у Глинки– поляки. Скажете тоже – поляки, не поляки, а так… вообще кто-то. Художественные образы врагов.
– Но Смутное время… – начинаете вы терять разум, – было же Смутное время, польское нашествие, был костромской крестьянин Сусанин, были Минин и Пожарский, всё это было…
– Да ладно вам, – усмехается кто-то. – Чего ещё всё это старьё трепать? Какое такое ополчение, ничего этого не было. Сидят придурки, бывшие совки на шести сотках в ветхом тряпье, и всё. Рабы и дураки.
Вот как хотите, Марина, но я это – ненавижу. Взять здоровую, аппетитную, пышную как свежий хлеб оперу, где всё устройство-то здоровое, бодрое, побуждающее к величавому и полнозвучному существованию – и превратить в скучное, некрасивое, бессмысленное, противное отсутствием всякой системы нравственных ценностей зрелище. Такое впечатление, кстати, что у Чернякова – цветоаномалия, так омерзителен его черно-серо-белый мир. Если для человека война 1612-го года, Смутное время, из которого ценой великого подвига когда-то выбрался народ, и сам этот народ, и прошлое России – всё это пустой звук, то пусть этот человек напишет красно-золотыми буквами на стене своей новой квартиры, которую он купил на гонорары от издевательства над классикой: «НЕ СТАВЬ ГЛИНКУ! ЗАБУДЬ ПРО ОСТРОВСКОГО! ВООБЩЕ ОТОЙДИ ОТ РУССКОЙ ОПЕРЫ И РУССКОЙ ДРАМЫ!»
Знаете, Марина, когда только открылся занавес и я увидела, как Сусанин строгает доску, я выругалась тихо и сказала: «ну, пошла, блин, режиссура». Я сразу хотела уйти. Поскольку творчество Чернякова я возненавидела с первого взгляда, со «Сказания о граде Китеже» Римского-Корсакова, которое режиссёр поставил пару лет назад. Там было абсолютно то же самое – народ в новостройках и на шести сотках, убогая серая толпа, ничтожные герои, тусклые вылинявшие краски, птицы Сирин, Гамаюн и Феникс – в виде замотанных в платки баб. У Чернякова начисто отшиблено эстетическое чувство национального. Он не понимает и не чувствует прелести русских мифов, сказок, чудных легенд, их самоцветной красочности, их обаяния. Он помнит, наверное, своё детство на убогой даче – про это и ставит. Такой реалист. Может, всё-таки тогда взять для «творчества» Петрушевскую, Сорокина, ещё чего-нибудь – но оставить навеки вечные Римского-Корсакова и Глинку в покое? Они заслужили.
«Снегурочка» Римского-Корсакова, постановка Александра Галибина, художник Георгий Цыпин. Пролог. В прологе должны быть, по идее, леший и птицы, ждущие Весну. Открывается занавес. Мы видим треснувший фасад многоэтажного дома, Лешего– бомжа с газетой в руке и стайку непонятных существ в белых носатых масках (в программке обозначено – «слепцы»). Понятно? Никакого вам Берендеева царства, никакой поэзии, никаких сказок и мечтаний. Живёте на помойке, уроды – и вот вам уродская «Снегурочка». Агрессия самоутверждения художника Цыпина обрушилась и на оперу, и на режиссера, и на зрителя без всякой пощады. Пролог – где встречаются Мороз и Весна – сыгран и оформлен в стиле Будапештской оперетты 70-х годов (фраки, декольте, блестки, перья), но дальше идут поистине марсианские хроники. В небе висит эллипс ядовито желтого цвета, статисты носят на головах небольшие избушки, народ пляшет в маскарадных костюмах кислотных расцветок – пестро-лиловое, зелёное, лимонное. Ничего похожего на цвета, принятые в русских народных костюмах нет – торжествует боевая раскраска из неведомой демонической галактики, откуда, может быть, родом наш художник. Но за что, за какие грехи мы должны всё это смотреть?
Неужели все эти модные художники и модные режиссеры никогда не жили на русской природе, не наслаждались её красками и звуками, не видели деревенских церквей, не рассматривали старинные кружева, вышивки, резьбу, неужели «Снегурочка» Островского для них – старый скучный хлам?
Я пишу вам не как критик – да и права такого не имею, поскольку ушла, не досмотрев спектакля. Я делюсь с вами чувством глубокого отвращения к искусству, которое берётся за национальные темы, будучи беспамятным и бесчувственным к национальной эстетике. Образуется некая секта высокооплачиваемых «бомжей», которой безразлично, Глинку оформлять или Вагнера, Мусоргского или Верди, Островского играть или Мариво. К любым произведениям подходит, по их мнению, один ключ – их собственный якобы модный вкус (попросту мусоросборник европейский штампов). А мне жалко зрителей, у которых отбирают заветные национальные сказки и предания. Отбирают, ничего не дав взамен.
Лучше бы Мариинский театр восстановил старые декорации – хотя бы Головина. Господи, были же у русской оперы художники, и какие! Понимали толк и в природе, и в народном искусстве, не считали зазорным учиться – и у природы, и у народа (в лучших его проявлениях). А Ларионов и Гончарова! От этих красок можно выздороветь душой – а от нынешних изысков вполне можно заболеть.
Поэтому, дорогая Марина, очень мне хочется вообще прекратить ходить в эти театры. Не нужны мы друг другу. Я ту, драгоценную Россию, люблю, а это модное кислотное искусство – ненавижу. Болею от него. Так что – не знаю, буду ли ещё писать в ваш журнал. Я не хочу описывать явления, которые мне отвратительны чуть ли не физиологически. Это ужасно скучно. А я люблю жить весело. И мне на жизнь вполне хватит того, что Россия наработала когда-то. Можно обойтись без модных писателей. Модных режиссёров и модных художников. Как вы думаете?
Привет семье и друзьям. Лето, отдыхать пора, а мы всё пишем свои ворчалки. Отщепенцы мы с вами, не правда ли?
Москвина, июль 2004 г.
У меня есть членский билет Союза кинематографистов – так, про запас. Применять его негде, разве показать при входе на очередной съезд, но этот вид русского экстрима мне уже не по здоровью. Боюсь, что опять услышав слово «Киноцентр», зарежу кого-нибудь, совсем невиноватого. Для размышлений о нашем кино достаточно самого продукта, видеть его создателей необязательно. Вообще советую избегать большого количества мужчин инфарктного возраста – там правды нет. Раньше, в эпоху демократии, было занятно видеть, как в собраниях волновались за отечество, кого-то проклинали, что-то защищали. Пользы от этого не было никакой, но люди хоть слегка были похожи на своих прекрасных далёких предков – на граждан свободных Афин. Теперь не то. Теперь, скажем, верхи союза кинематографистов напоминают скорее коварных венецианских дожей – важные такие, себе на уме, а на уме одно золото; зазеваешься, так недолго и яду из перстня хлебнуть…
Кинематографисты – народ эгоистичный. В каком бы состоянии ни находилась страна их обитания, война там или мир, демократия или тоталитаризм, у них одно в голове – снимать кино. Причём в кинематографическом смысле война и тоталитаризм даже лучше: живописней. Конечно, самое эффектное кино делали бы в Древнем Риме, сперев, ясное дело, всю эстетику у греков. Но кино изобрели тогда, когда хлебнув тысячелетнего лиха, массовый человек взбунтовался повсеместно, назвал себя «зрителем» и потребовал искусство, эту аристократическую забаву, себе на стол.
Самое удивительное, что в России это произошло совсем недавно. Просто – на днях. И не ждали мы такой беды. Ну, Лев Толстой пишет книжки про Христа для народа. Ну, Луначарский требует вернуться назад к Островскому и сочинять для рабочих масс настоящие худ. произведения. Но ведь всегда было начальство, а хуже врага, чем массы, у начальства нет, потому, будучи в космическом одиночестве, начальство поручало-допускало отдельных лиц к бессмысленному и безадресному художественному творчеству, надеясь на ответную благодарность. «Я вас любил, любовь ещё, быть может…» – кому это нужно, сорока миллионам крепостных? Скорее уж графу Бенкендорфу.