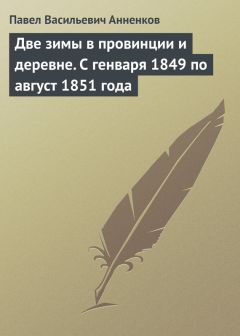Как вспоминал сам Анненков, его Генриетта была связана с какой-то парижской шпаной, с апашами, и для мирного Петербурга в этом была некая экзотика (как в ресторанной и окраинно-панельной жизни Блока), так что она с непременностью должна была проявиться в стихах начинающего (все еще начинающего) поэта-художника. В стихотворении Rue de la Gaité поэту чудятся капли крови на тротуаре и прочие таинственные следы уголовной жизни Парижа…
В целом же, город художников, Лувра, кабаков, музыки и прелестных дам крепко держал любвеобильного питерца в своих тенетах, однако Анненкову удалось выбраться и на берег моря, в облюбованную художниками экзотическую Бретань. В первый раз молодому общительному петербуржцу подвернулась работа (или, как говорили поздней, халтура — кстати, Анненков, и тогда, молодым, да и позднее, ко всякой халтуре относился серьезно: «работа есть работа») — нужно было проиллюстрировать научную диссертацию какого-то биолога, и Анненков (уже успевший к тому времени показать свои работы в Салоне Независимых) уехал в крошечный городок Роскоф, что в Северном Финистерре, в стране Леон.
В древней Бретани и самый крошечный городок может похвастать ценными памятниками старины, лаврами былых побед и разбоев, плодами вековых трудов. Роскоф стоит у самого входа в пролив Па-де-Кале, отсюда уходили в плаванье рыбаки, авантюристы и пираты, здесь в старину разворачивались морские баталии, сюда не раз вторгались англичане. Здесь праздновала свадьбу с дофином Мария Стюарт, здесь же она отбывала ссылку. Со здешнего берега открывается пленительный вид на Морлесскую бухту, а над берегом высится Храм Божьей Матери. К востоку же от Старого Порта стоит ХVII века часовня Сен-Барб, о которой молодой петербургский художник и поэт Юрий Анненков вспоминал в стихах:
На желтой скале, над самым морем
В далекие времена поставили храм.
Храм XVI–XVII вв стоит и ныне над берегом, а в бретонских музеях и поныне вспоминают русского художника. Здесь он написал тогда свой «Городок в Бретани», «Пьяных рыбаков» и «Ночь в Бретани», а позднее также «Вечер в Бретани», «Гавань в Бретани» и еще и еще. Анненков ностальгически вспоминал о своей бретонской молодости в «Дневнике встреч», вспоминал о «дружбе с загорелыми и заскорузлыми моряками в клеенчатых куртках», вспоминал про «зеленое море, черные силуэты бретонок в кружевных головных уборах, прибрежные камни и скалы, ночную игру маяков, цокот деревянных сабо». Старый Порт, старинные роскофские улочки и прохлада храмов навевали молодому русскому ностальгию по ушедшему, о чем он по возвращении на родину и сообщил читателям «Сатирикона»:
Я хотел бы стать святым аббатом.
В час набегов и восстаний
Пробуждать селение набатом
Где-нибудь в трагической Бретани.
$Но, увы, не стоит быть аббатом.
Нет ни бунтов больше, ни восстаний.
Напоен покоем каждый атом
Там вдали, в лирической Бретани.
В общем, скучновато бывало иногда в Бретани тогдашнему петербуржцу. Блок, отдыхавший в ту пору с супругой совсем неподалеку от Анненкова (но конечно, не подозревавший еще ни о соседстве ни о самом о существовании своего будущего иллюстратора), просто с ума здесь сходил от тоски, мечтая, чтобы хоть мировая война началась что ли. Здесь же, в Бретани, Блок написал об этой скуке прекрасное стихотворение — про визит военной эскадры, про пылинку на ноже карманном…
Впрочем, Анненкову было все же не так скучно, как женатому Блоку. К тому же он и работу должен был закончить на местной биостанции…
Биостанция в Роскофе была старинная, знаменитая. Она была основана в 1872 году профессором Лаказом-Дютьером и размещалась в двух старинных зданиях, уцелевших аж от XVII века. Позднее воспоминанья о знаменитой станции и ее основателе, может, приходили в голову Анненкову, ибо как раз на парижской улице Лаказа (в XVI округе) проходили знаменитейшие эмигрантские собрания и чтения, например, читал свои произведения В. В. Набоков, чьи восторженные описанья мельчайшей фауны, попавшей на стеклышко микроскопа, Анненков отчасти то ли предвосхитил, то ли повторил в своих примечаниях к «Портретам»:
«Стоит только повнимательней заглянуть в стекло микроскопа, проследить — с какой медлительной пышностью расплываются и видоизменяются окрашенные препараты, чтобы открыть неисчерпаемый источник графических и живописных откровений. Художники напрасно пренебрегают микроскопом, сквозь чечевицы его стекол на нас смотрит новая природа, ничем не схожая с той, что мы видим невооруженным глазом и способная обогатить багаж наших зрительных впечатлений».
Сообразительный Анненков высказал предположение, что именно это зрелище навеяло высокообразованному Кандинскому его абстрактно-микробные цветные феерии. Дерзкий Анненков высказал предположение, что эти прославленные феерии лишь точные (даже фотографически-точные, но все же разноцветные) копии того, что видит человек через линзу микроскопа. Встав на почву этих дерзостных гипотез, выскажу предположение, что именно студенческие воспоминания о работе с микроскопом вызывают столь дружное пристрастие нынешних парижских врачей к этим шедеврам гениального Vassily Kandinsky. Попав в приемную очередного парижского врача — не обязательно дантиста или дерматолога (которым, как известно, столь многим обязана жизнь искусства), но и кардиолога, и офтальмолога, я лихорадочно ищу на стене Кандинского, а потом уж здороваюсь с пациентами и худо-бедно перевожу на французский русскую фразу «Кто последний?». Репродукция Кандинского с пестрой микроскопической россыпью на стене — залог современного уровня бесплатной парижской медицины…
В тех же автобиографических примечаниях к своим «Портретам» Анненков рассказывает, что работа над рисунками для диссертации профессора-турка (у него было скромное имя Зиа-Бен-Нафильян и диссертация его была посвящена актиниям) так увлекла его, что он остался на роскофской биостанции до осени и без устали делал рисунки морской флоры и фауны. Об этом увлечении он так вспоминал в упомянутых выше примечаниях к «Портретам»:
«Я с увлечением наносил на бумагу мельчайшие подробности хрящеобразной кожи рыбы-луны, морского ежа, пульсирующих внутренностей прозрачного кальмара или сеть нежнейших пузырьков и крапинок расплывчатых и трепетных актиний всех оттенков палитры, знакомой человеку и еще иной. Постепенно я с головой ушел в эту работу, захваченный неожиданным великолепием красок и линий».
Напомню, что задолго до Анненкова, почти на том же бретонском берегу, неподалеку от Роскофа, в Примеле, открывая многообразие мира, так же увлеченно рисовали морских чудо-рыб, купленных у рыбаков-соседей, два молодых русских мирискусника — Александр Бенуа и его племянник Женя Лансере.
Для молодого авангардиста Анненкова это тоже было открытием небывалого мира. Чудеснейшего из миров — Божьего мира, бывшего, впрочем, и до нас с вами (и уж конечно, до всех авангардов) неоднократно открытым…
Анненков не стыдился своих восьми акварелей, написанных для диссертации турка-зоолога, в том же 1912 году изданной в Париже, он включал их позднее даже в списки самых серьезных своих работ. Вообще, он не гнушался никакой работой. Чуть позднее, уже в голодающем Петрограде, он сделал 60 рисунков для книги «Земля, вода и воздух», вышедшей в знаменитом издательстве карикатуриста Зиновия Гржебина (того самого, которого он вывел позднее в своей «Повести» под именем процветавшего даже в голодном Петрограде доктора Френкеля).
При иллюстрировании научных книг тоже нужна твердая рука, большая точность. Это высокое (и высоко ценимое издателями) искусство. Из моих однокурсников-художников первым, помнится, этим искусством овладел мой друг-художник Саша Гуревич. Его изображения сердечно-сосудистой системы были ошеломляющими. Недаром он первым из иногородных студентов-художников получил московскую прописку и первым купил кооперативную квартиру…
Что до Юрия Анненкова, то в Петербург он вернулся из Парижа (через Швейцарию) перед войной, вернулся уже вполне себя зарекомендовавшим художником. Если впервые в парижском Салоне Независимых (в 1911 году) он выставлял лишь свои эскизы несостоявшейся церковной стенописи, то в 1913 году он выставил уже три пейзажных картины на французские темы.
Вернулся он домой обогащенный достижениями разнообразных «измов», главным образом, сюрреализма и кубизма, кое-какого «симультанизма», в общем, был пылкий «футурист». Хотя к первым актам рождения русского футуризма он опоздал, зато приехал к самому пику футуризма (и кубофутуризма) и везде успел поучаствовать.
Уже в 1913 году он дебютировал в качестве художника-декоратора в театре Николая Евреинова «Кривое зеркало»: оформил спектакль «Хомо сапиенс».