Тем обстоятельством, что Чехов был врач, объясняются и некоторые особенности истории его болезни. Как это ни странно, но как раз врачи чаще других впадают в две возможные крайности: или они переоценивают свои болезненные ощущения и симптомы и относят к себе все наиболее неблагоприятное, что знают из книг или практики про свою болезнь, или, наоборот, недооценивают того, что есть, отмахиваются от самых, казалось бы, убедительных симптомов, опять-таки стараясь обосновать свое отношение специально медицинскими доводами и соображениями. Много писалось и о специальной психике туберкулезных. Но и среди последних можно наблюдать такие же разнообразные характеры и типы, как и среди страдающих другими болезнями. Только здесь под влиянием некоторых особенностей течения болезни, ее часто медленного развития и длительности и созданных этими особенностями особых условий указанное выше ненормальное отношение к болезни сказывается особенно резко. Чехов является ярким примером длительного и упорного игнорирования, казалось бы, ясных и бесспорных явлений.
Я уже указывал, что в первое время нашего знакомства о его болезни разговора не было и осторожные мои и доктора Орлова попытки коснуться этого вопроса успеха не имели; и во время нашей короткой совместной жизни он нередко обращал внимание на мой кашель и серьезно советовал мне серьезно заняться своим здоровьем, но тщательно избегал касаться своего недуга. 27 ноября, вскоре после моего возвращения из краткой отлучки на север, мне рано утром подали доставленную от Чехова в запечатанном конверте записку: «Cher monsieur, auries vous l'obligeance de venir chez moi. Je garde le lit. Votre devoue. Tsch.» и после этих изысканных французских строк по-русски: «Захватите с собой, товарищ, стетоскопчик и ларингоскопчик». Ларингоскопчика я не захватил, поняв, что это лишнее, но поспешил к нему и застал его в постели с порядочным кровохарканьем. И с этого дня он становится уже моим пациентом. Когда через несколько дней после остановки кровохарканья я мог детально его исследовать, то был поражен найденным. Я нашел распространенное поражение обоих легких, особенно правого, с явлениями распада легочной ткани, следы плевритов, значительно ослабленную сердечную мышцу и отвратительный кишечник, мешавший поддерживать должное питание. Приходилось читать, что Чехов заболел, блуждая осенью 1896 года целую ночь по Петербургу, после провала «Чайки». Это одна из легенд. При этом нашем первом медицинском разговоре он начал летосчисление с года поездки на Сахалин (1890), когда у него еще по дороге туда случилось кровохарканье, но впоследствии выяснилось, что оно появлялось уже в 1884 году и потом нередко, иногда по несколько раз в год повторялось, 15-ти лет от роду он перенес какое-то острое длительное лихорадочное заболевание, после того как выкупался в ледяной воде, и провалялся тогда некоторое время в еврейской корчме в степи (впоследствии им описанной) и затем еще довольно долго и дома. И в студенческие годы, как я узнал потом от товарища его, студентом проживавшего у Чеховых, он много кашлял, нередко лихорадил, объясняя это простудой, никогда не лечился, не давал себя выслушивать, чтобы «чего-нибудь там не нашли». Суворин, имевший возможность близко наблюдать Чехова во время их совместных путешествий и частых встреч, настаивал на необходимости лечиться, и Чехов в своих письмах к нему, хотя и подтверждает наличность кашля и кровохаркании, и признает, что последние пугают его, так как «в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве», но тут же наставительно, как врач, поучает, что «чахотка или иное серьезное легочное страдание узнается только по совокупности признаков, а у меня-то именно нет этой совокупности». И в другом письме: «Если бы кровотечение, какое у меня случилось в окружном суде (в 1885 году на знаменитом процессе скопинского банка), было симптомом чахотки, то я давно уже был бы на том свете, вот моя логика». В 1889 году умер от туберкулеза брат его Николай, художник, но и это не подействовало, и в 1891 году он пишет: «Я продолжаю тупеть, чахнуть и кашлять. Впрочем, все это от Бога. Лечение и забота о своем физическом существовании внушает мне что-то близкое к отвращению. Лечиться не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя какому-нибудь врачу не позволю». И не позволял себя выслушивать и не обращался к врачам до весны 1897 года (почти 15 лет!), когда хлынувшая за обедом с Сувориным в «Славянском базаре» обильная кровь и вмешательство Суворина и врача заставили его лечь в клинику профессора Остроумова, где был диагностирован активный процесс в обоих легких. На этот раз Чехов понял и уже на следующий день из клиники писал: «Для успокоения больных им говорят, что кашель желудочный, а кровь геморроидальная. У меня кровь идет из правого легкого, как у брата и другой родственницы, тоже умершей от чахотки». Затем лето в деревне, осень и зима на Ривьере, где он живет, но не лечится, и уехал оттуда в Париж, уже в середине марта, в самое неподходящее время, когда многие как раз спасаются на Ривьеру. Сестра и брат его отмечают, что по возвращении его из-за границы летом в Мелихове по обыкновению было много гостей, друзей, но он уже не шутил, был задумчив и стал мало разговаривать. И вот теперь в Ялте ему опять пришлось обратиться к врачу. Однако мои тогдашние старания убедить Чехова в необходимости приняться серьезно за лечение сначала опять оставались без особого результата. Он упорно повторял, что лечиться, заботиться о здоровье внушает ему отвращение. И ничто не должно было напоминать о болезни, и никто не должен был ее замечать. Поэтому и выработал он такую манеру говорить, не повышая голоса, медленно, и если уж приходилось кашлять, то мокрота по возможности незаметно отплевывалась в маленький заранее приготовленный бумажный фунтик, тут же спрятанный где-нибудь за книгами и отправляемый потом в камин. И не только с посторонними не любил он говорить о своей болезни, но от своих домашних скрывал свои немощи, никогда не жаловался и на вопрос: «Как себя чувствуешь?» — отвечал: «Сейчас хорошо, почти здоров, только вот кашель». Так как, пользуясь современной терминологией, мой блицкриг не удался, то я повел медленное наступление, и постепенно, с трудом, но добился относительных успехов, так что к 1901 году он перешел уже на положение настоящего пациента и сам уже иногда предлагал: «Давайте послушаемтесь». Трудно было ему привыкнуть к Ялте, к «теплой Сибири», как он ее называл, или после процесса Дрейфуса еще «Чертовым островом». Трудно ему было примириться с оторванностью от привычной литературной среды, привычной обстановки, скучно «без культуры, без московского звона», последнее особенно.
Его привязанность к Москве была исключительной и иногда выражалась в курьезных формах. Так он аккуратно выписывал из Москвы почтовую бумагу, конверты, w-бумагу, калоши, колбасу, утверждая, что только в Москве можно найти такие, как ему требуются, хотя само собой все это можно было получить и в ялтинских магазинах того же качества и даже тех же фирм. Но переубедить его в этом не было никакой возможности.
В Ялте он себя в первое время чувствовал как «заштатный поп». Но в известной степени так себя чувствовали в первое время многие из вынужденных обитателей Ялты, тоже вырванные из привычной среды. Большинство из них, однако, через более или менее короткое время приспособлялись к новым условиям жизни, вживались. Привык бы и Чехов. Да он и писал впоследствии жене (осенью 1903 года), когда это вовсе уж не могло вызвать радостной реакции у адресата, что «к Ялте уже начинаю привыкать, пожалуй, научусь здесь работать». Да он ведь и не переставал в сущности работать. За первые полтора-два года его ялтинской жизни многое как будто бы и облегчало это приспособление к новому месту. Постройка собственной уютной дачи, переезд матери и частые наезды сестры, продажа сочинений Марксу на условиях, тогда казавшихся очень выгодными и во всяком случае обеспечивавших его материальное положение, выборы в почетные академики в начале 1900 года. Среди примечаний Дермана к изданию переписки Антона Павловича с О. Л. Книппер, вообще очень ценных и внимательно составленных, есть одно, где он говорит о том, что к выборам в академию Чехов отнесся «в лучшем случае безразлично, вернее отрицательно». Это неверно. Чехов, правда, отметил, что просто в равноправные члены академии ученые не решились избирать людей не из своей среды, но все-таки был очень доволен, и не только потому, что «врачи московские радуются», но, главным образом, потому, что видел в этом признание русского писателя. Он был в хорошем настроении, читал из присланной книжки описание парадного академического мундира и, смеясь, рисовал картину, как в солнечный ясный день по ялтинской набережной понесут открытый гроб с ним в белых штанах и парадном мундире, спереди крышка гроба со шпагой и треуголкой, а еще впереди торжественно буду шествовать я, неся подушку со всеми его орденами: медалью за перепись и Станиславом 3-й степени, полученным им как попечителем школы. Далее, весной того же 1900 года в Ялту специально для него приезжала труппа Художественного театра. Наконец, это время совпало как раз с периодом расцвета Ялты и южного берега Крыма, который все больше начинал играть роль русской Ривьеры, и сюда приезжали в большом числе представители и литературы, и науки, и искусств. Среди них было много «беспокойщиков», но было и много лиц ему приятных, как раз хоть отчасти заменявших пробелы в привычной среде. И я начинал надеяться, что понемногу он займется и правильным лечением и здоровье его наладится. Правда, как это ни странно, было много обстоятельств, зависевших от окружавшей его дома обстановки, мешавших правильному его лечению. Для таких больных одним из главных условий последнего является правильный режим, в частности пищевой. Чехов был очень привязан к семье, но особенно нежно любил свою мать, окружая ее трогательной заботливостью, и последние слова в его письме-завещании на имя сестры были: «береги мать». И Евгения Яковлевна платила своему Антоше той же исключительной нежностью. Но что могла сделать эта милая всеми любимая старушка! Разве могла она что-нибудь провести или на чем-нибудь настоять! Кухней заведовала древняя-древняя старушка Марьюшка, привезенная из Мелихова. И выходило так, что, несмотря на все предписания, пищу давали ему часто совершенно неподходящую, а компрессы ставила неумелая горничная, и о тысяче мелочей, из которых состоит режим такого больного, некому было позаботиться. Сестра его Мария Павловна, очень всегда заботившаяся о матери и о брате Антоне, и духовно больше всех близкая ему, когда выяснилось положение, была совсем уже готова покинуть Москву, где она учительствовала в частной женской гимназии, и переехать совсем в Ялту, и я не сомневаюсь, что вдвоем мы в конце концов побороли бы сопротивление Антона Павловича, но после его женитьбы план этот по психологически понятным причинам отпал. С этого времени условия его жизни резко изменились, и исключительно с чисто врачебной точки зрения я должен сказать, что изменения эти, к сожалению, не могли способствовать ни лечению, ни улучшению его здоровья.
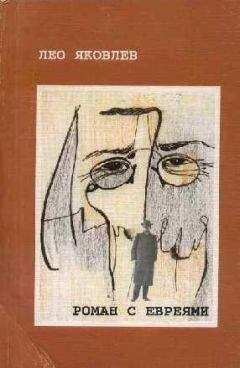
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


