Сознавал ли сам Антон Павлович в глубине души свое положение? Я уже приводил выше слова, сказанные им М.М. Ковалевскому в начале 1901 года. В марте этого же года, т. е. еще до венчания, Антон Павлович писал Ольге Леонардовне: «Да и здоровье мое становится, по-видимому, совсем стариковским, так что ты в моей особе получишь не супруга, а дедушку, так сказать». Старый друг чеховской семьи, прекрасно всех их знавшая Т. Л. Щепкина-Куперник в своих воспоминаниях описывает свое посещение в Москве, относящееся к осени 1902 года: «Я изумилась происшедшей в нем перемене. <…> Он горбился, зябко кутался в какой-то плед и то и дело подносил к губам баночку для сплевывания мокроты. <…> В этот вечер Ольга Леонардовна участвовала в каком-то концерте. За ней приехал корректный В. И. Немирович во фраке с безупречным белым пластроном. Ольга Леонардовна вышла в нарядном туалете, повеяло тонкими духами, ласково и нежно простилась с Антоном Павловичем, сказав ему на прощанье какую-то шутливую фразу, чтобы он без нее не скучал и «был умником» — и исчезла. Антон Павлович поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял. <…> И когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний Мелихова, прошлого, общих друзей: «Да, кума… помирать пора».
Эти последние годы мое положение как врача очень затруднилось. Мне приходилось бороться не только с бациллами, но и с Москвой. И силы были неравны.
Весной 1902 года Ольга Леонардовна из Петербурга, где гастролировал Художественный театр, приехала в Ялту серьезно больной, и спустя несколько недель поехала долечиваться в Москву. <…> Она стала в это время очень нервной, болезненно подозрительной, ревновала Антона Павловича к его семье, особенно к сестре Марии Павловне. Все это, о чем тогда можно было частично догадываться, стало общеизвестным после обнародования переписки Антона Павловича с Ольгой Леонардовной. В 1922 году я, приехав в Берлин, застал там Художественный театр, часто виделся с Ольгой Леонардовной. И вот однажды она сообщила мне, что в издательстве «Слово» находятся в печати письма к ней Антона Павловича, и дала мне для просмотра несколько присланных ей корректурных листов, прибавив: «Напрасно вам даю, вам будет неприятно кое-что читать». Познакомившись с содержанием, я ей советовал их пока не печатать, хотя бы потому, что многие из лиц, там поименованных, еще живы. Она ответила, что уже поздно, что она и деньги от издательства уже получила. Много позже, всего несколько лет тому назад, эти письма вышли в Москве вместе с письмами к нему Ольги Леонардовны в прекрасном издании, под редакцией и с примечаниями Дермана.
Письма Чехова к жене стоят совершенно особняком в его богатом эпистолярном наследстве. Насколько вообще письма его исключительно интересны по содержанию, блещут умом, стилем, остроумием, настолько эти бесцветны и, за исключением всего, относящегося к театру и постановкам, серы и неинтересны и могут дать совершенно ложное представление об их авторе, значительно уступая в интересе письмам Ольги Леонардовны, дающим не только богатый материал по истории Художественного театра первых лет его существования, но и касающимся часто разных сторон московской и петербургской жизни. В одном из своих писем ей он замечает: «Жене своей пишу только о касторке, пусть она простит своего старого мужа». И это почти верно. Читая эти письма, я часто задавал себе вопрос, почему он в них так скучен, так неинтересен, явно и упорно избегая касаться вопросов общих, даже литературных. Это особенно непонятно потому, что его корреспонденткой являлась женщина очень умная, с многообразными интересами, исключительно занимательная собеседница. И для меня так и осталось непонятным и неразрешенным, почему барьер как раз в этом случае оказался особенно высоким и непроницаемым.
Он много пишет об умывании, о чистке зубов, мытье головы, шеи, о перемене белья, чистке платья, и можно подумать, что это неопрятный замухрыжка, которого обучают хорошим манерам и приводят в благопристойный вид. Конечно, у него было, вероятно, немало привычек старого холостяка, и Ольга Леонардовна, вероятно, вносила в обиход много своего, женского, но я знал его как щепетильно-опрятного, необыкновенно аккуратного даже в мелочах, и у него всегда во всем царил образцовый порядок. Я никогда не видел у него кабинет неубранным или разбросанные части туалета в спальне; и сам он был всегда просто, но аккуратно одет; ни утром, ни поздно вечером я никогда не заставал его по-домашнему, без воротничка, галстука. В этом сыне мелкого лавочника, выросшем в крайней нужде, было много природного аристократизма, не только душевного, но даже и внешнего, и от всей его фигуры веяло благородством и изяществом.
Ольга Леонардовна в своих письмах все время звала его в Москву. Я всячески старался этому противодействовать. Отсюда ее старания по возможности мое влияние устранить. И Антон Павлович в письмах старается ее в этом отношении успокоить, жертвуя часто правдой. Он скрывает мои посещения, пишет иногда, что я стал редко бывать, хотя за последние годы вряд ли проходило 2–3 дня без того, чтобы я не заехал к нему. Пишет, что я не лечу его, а приезжал так, посидеть. И часто себе в этом отношении противоречит. В другой раз пишет: «Приходил А., требует от меня послушания: требует настойчиво и завтра явится выслушивать меня; опротивело мне все это». Она отвечает: «Если тебе нужно, если тебе хорошо, умоляю, оставайся в Ялте; а что дальше будет, увидим». Он ей сообщает: «Кровохарканья здесь в Ялте не было ни разу, а в Любимовке (дача Алексеевых под Москвой, где они жили летом, и откуда он, чувствуя себя плохо, приехал один) оно было почти каждый день». На это Ольга Леонардовна отвечает: «Оставайся в Ялте совсем, на всю осень; это тебе будет очень хорошо и А. будет доволен. Напиши, что он тебе сказал». «Третьего дня явился ко мне твой, как ты его называешь, враг А.». «Вчера А. был у меня и все поддразнивал, и я подозреваю, что ты подкупила его, чтобы он подольше удерживал меня в Ялте». Пишет, что я был, но выслушать он мне не позволил. Но я ведь вообще выслушивал его, только когда это требовалось. И Ольга Леонардовна это знала. В 1929 году она в статье «Последние дни Чехова» в «Литературной газете» пишет: «Антон Павлович обыкновенно тяготился визитами врачей настолько, что даже наш постоянный врач и друг И.Н.А. всегда старался, и это ему удавалось, маскировать свои врачебные визиты к Антону Павловичу».
Как я указал выше, во время и после своей болезни она в письмах, иногда в очень обидной форме, нападает и на Марию Павловну, единственную мою союзницу; негодует, почему только, когда ее нет в Ялте, Антон Павлович лечится, чувствует себя хорошо, настроен хорошо; почему от Марии Павловны он принимает уход, заботы, а ее не допускает.
Отвечая в 1929 году на мой вопрос, читала ли она письма Чехова к Ольге Леонардовне (берлинское издание), Мария Павловна мне писала: «Письма к Ольге Леонардовне я не читала и даже книги у меня нет. Это издание заграничное, и у нас в СССР его не имеется. Я думаю, это хороший такт со стороны Ольги не давать мне читать этих писем. Я боюсь их читать: тяжело».
Думаю, что в письмах и настроениях Ольги Леонардовны за это время играли роль не одна только болезнь и вызванная ею нервозность. Как женщина умная, она прекрасно понимала ненормальность создавшихся отношений. Ольга Леонардовна вышла из совсем другой среды, из чопорной немецкой семьи, и она очень скоро и крепко вошла в чеховскую, слилась с ней, в частности полюбила и подружилась с Марией Павловной. Еще в 1900 году она писала Чехову: «Я совсем отвыкла от своих; это ужасно, но это так». И поэтому она особенно болезненно чувствовала и переживала сдержанность, замкнутость Чехова. Еще до их брака она ему пишет: «Поболтай со мной попроще, пооткровенней; право, будет лучше, чем играть в молчанку». И уж в 1902 г. опять: «Ты со мной ничем решительно не делишься, а еще называешь подругой». «Ты рассказал Маше о пьесе, которую задумал («Вишневый сад»), а мне даже не намекнул». «Отчего мы не встретились молодыми? иными? Эх, Антон, Антон!» Под влиянием болезни и вынужденной невозможности совместной жизни, как ей хотелось, это только все обострилось. Должен сказать, что все эти настроения оказались преходящими и были забыты, и дружба, связывавшая Марию Павловну с Ольгой Леонардовной, осталась такой же крепкой, и связь Ольги Леонардовны с семьей Антона Павловича после его смерти стала, пожалуй, еще крепче. Насколько мне известно, вдова его брата Ивана после смерти мужа совсем переехала к ней. Точно так же и мои дружеские отношения с Ольгой Леонардовной ничем не нарушались за многие годы, прошедшие после смерти Антона Павловича. В свои частые, хотя бы и краткие, наезды в Москву я всегда старался повидать ее, у нее дома или в Художественном театре, и потом за границей мы всегда встречались, как старые друзья. Только часто вспоминая в наших беседах Антона Павловича, мы как-то никогда не касались его болезни и печения.
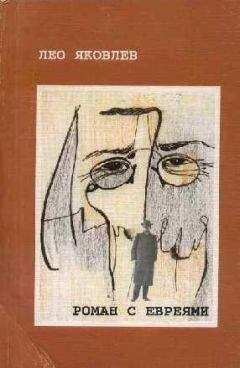
![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


