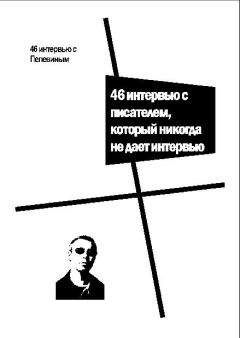Я провел свое детство в брежневской России и, конечно, роман отчасти об этом. О той атмосфере, он ее передает. Но что меня действительно интересовало, так это онтология детства как такового. Я уже не тот человек, которым я привык быть, и когда-нибудь я опять стану другим человеком по отношению к себе сегодняшнему. Но в принципе я не принимаю ту идею, что мы вырастаем. В «Жизни насекомых» молодой скарабей не толкает перед собой этот навозный шар, он свободен. Но через некоторое время он начинает лепить его — как свою индивидуальность и личность — и со временем оказывается, что единственное, что вы в жизни делаете, это толкаете перед собой этот большой шар. Я хотел попытаться «схватить» этот процесс и напомнить, как все это было пока он не начался.
Оригинал — Sally Laird, книга «Voices of Russian Literature: Interviews with Ten Contemporary Writers» (Oxford: OUP, 1999. — PP. 178–193)
http://books.google.com/books?id=kxXogV0O1SoC.
Перевод — http://isolder.livejournal.com.
27 августа 1996. Сергей Кузнецов, «Огонек»Только что в издательстве «Терра» вышел двухтомник Виктора Пелевина.
Последнее время Пелевин неизменно занимает первые места во всех рейтингах современной прозы. Весенние номера журнала «Знамя», где был опубликован его роман «Чапаев и Пустота», расхватали так, как расхватывали толстые журналы только во времена перестроечного бума.
Во время учебы в Литературном институте Виктор Пелевин однажды поспорил, что сдаст всю сессию без подготовки и, более того, на каждом экзамене будет говорить только об Аркадии Гайдаре. Все шло хорошо вплоть до последнего экзамена по русской литературе XIX века, когда Пелевин вытащил билет об «Отцах и детях». Группа замерла в ожидании.
— Чтобы разобраться в романе «Отцы и дети», мы должны лучше понять фигуру Тургенева, — начал Пелевин, — а это станет возможным, только если мы поймем, что Иван Сергеевич Тургенев был своеобразным Аркадием Гайдаром XIX века.
Преподаватель онемел, а будущий писатель триумфально продолжил:
— Итак, кто же такой Аркадий Гайдар?
Пари Пелевин выиграл.
В конце восьмидесятых Виктор Пелевин стал известен как фантаст: его рассказы появлялись в сборниках и в журнале «Химия и жизнь», где в то время был лучший раздел фантастики. Известность молодого прозаика не выходила за пределы круга поклонников этого жанра, хотя ни к так называемой «научной фантастике», ни к fantasy (Толкиен, Желязны и т. д.) его рассказы, строго говоря, не относились. В результате первый сборник рассказов, «Синий фонарь», хотя и исчез с прилавков почти мгновенно, остался не замечен серьезной критикой.
Перелом наступил после появления в журнале «Знамя» повести «Омон Ра», в которой вся история советской космонавтики представлена как грандиозное и кровавое надувательство: никаких технических достижений, по Пелевину, не было и нет, вместо любого узла ракеты сидит камикадзе, выполняющий задание и после этого гибнущий. Повесть была воспринята как злая сатира на тотальный обман советской пропаганды, и лишь немногие обратили внимание на неожиданный финал «Омона Ра», в котором выясняется, что никакие ракеты никуда и не думали лететь, а все происходило только в сознании обреченных на смерть «космонавтов», поскольку «достаточно одной чистой и честной души, чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на один миг необходима, потому что именно в ней взовьется это знамя».
На следующий год «Синий фонарь» получает малую букеровскую премию как лучший сборник рассказов 1992 года. Одна за другой выходят повести «Жизнь насекомых» и «Желтая стрела».
Сегодня Виктор Пелевин один из самых популярных отечественных прозаиков — не только за рубежом, где его книги переводят одну за другой, а самого писателя сравнивают с Хемингуэем, Кафкой и Терри Саутерном, но и на родине.
Сам Виктор Пелевин не занимается саморекламой и даже избегает журналистов. Позвонивших ему приветствует в автоответчике вежливый женский голос: «Вы набрали такой-то номер. Оставьте ваше сообщение после гудка. Интим и гербалайф не предлагать».
— Я однажды прочел эти слова в газете, и мне очень понравилось, — объяснил мне Пелевин. Мою просьбу об интервью он тоже отклонил. — Я никому не даю интервью, даже «Файнэншл таймс». Дело в том, что в «Бостон глоб» написали про меня, что я избегаю телевидения и не беседую с журналистами. На самом деле меня на телевидение и не приглашали ни разу, но я решил: раз так пишут, пусть так и будет.
Еще в советское время он переводил Карлоса Кастанеду и до сих пор сохранил интерес к эзотерическому знанию, «измененным состояниям сознания» и «другим реальностям», будь то вызванные наркотиками галлюцинации или компьютерный виртуальный мир. С не меньшей гордостью, чем о положительных рецензиях в западной прессе, Пелевин рассказывает, что Александр Генис назвал «Чапаева и Пустоту» первым русским дзэн-буддийским романом.
Пелевин верит в иллюзорность нашей жизни, он и сам придумывает другие миры и любит рассказывать альтернативные версии российской истории: то центр управления советской Россией находится в подземельях под Кремлем («Повесть огненных лет»), то перестройка возникает в результате мистических упражнений уборщицы Веры Павловны, сосланной после смерти в роман Чернышевского в наказание за «солипсизм на третьей стадии».
Но, по мнению Пелевина, в наших силах разорвать иллюзию и выйти навстречу подлинному Бытию. Так это и происходит с героями большинства его поздних книг: цыплятами, вырывающимися за окна инкубатора («Отшельник и Шестипалый»), мотыльком Митей, превращающимся в светлячка («Жизнь насекомых»), а также Чапаевым, Анной и Петром, погружающимися в финале романа в «Условную реку абсолютной любви» — сокращенно «Урал».
Любая деталь привычной жизни вписывается Пелевиным в создаваемую в том или ином произведении систему: так, москвичи превращаются в муравьев, ползающих по Большой и Малой Бронной, Пушкинской площади и Останкинской телебашне — то есть по ржавой броне, пушке и радиоантенне японского танка, лежащего во дворе китайского крестьянина Джана, в похмельном сне ставшего правителем далекой северной страны СССР («СССР Тайшоу Чжуань»).
Впрочем, альтернативные варианты существования преследуют не только его героев. Буквально в один день в двух вышедших по разные стороны океана рецензиях были указаны различные годы его рождения — 1960 и 1967.
— Я чувствую, — смеется Пелевин, — что у меня есть промежуток в семь лет, в котором я могу жить.
Не менее обескураживающие слухи ходят про него в Москве. Видимо, мастерское владение жаргоном современной «братвы» вызвало предположения о том, что Пелевин «контролирует сеть коммерческих ларьков» и вообще «стал крупным бандитом».
— Ну раз крупным бандитом, то почему — ларьков? — недоумевает писатель, — тогда бы уж сразу — коммерческих банков. Хотя, — неожиданно находит он новый поворот темы, — на самом деле я ведь управляю всем этим миром — значит, и банками тоже.
Действительно, чему же удивляться: если мир иллюзорен, то любой, осознавший это, может управлять им. Пелевин — тем более.
Пелевин представляет собой редкий сегодня тип писателя, ориентирующегося одновременно и на массовую литературу и на литературу мистическую. Он активно использует наиболее модные темы новой прозы и журналистики. На «Интердевочку» он отвечает «Миттельшпилем», на «Ледокол» — серией рассказов о «Третьем рейхе», на разоблачение лживости советской историографии — фантасмагорией «Повести огненных лет». Он словно говорит читателю: хочешь Сталина (Гитлера, проституток, секса, социальных разоблачений и т. д.) — вот тебе твой Сталин (Гитлер, проститутки, социальные разоблачения). Однако небольшие штрихи исподволь меняют всю картину, для внимательного читателя превращая рассказы Пелевина едва ли не в пародию на перестроечные бестселлеры.
Сейчас поклонник Борхеса и Майринка перечитывает «Анну Каренину», и, может быть, его следующий проект будет связан с этой великой книгой.
— Меня давно привлекает жанр «дамского романа», — сознается Пелевин. — Мне показалось, что Толстому это почти удалось. Только нужно подсократить длинноты и добавить секса — и будет бестселлер. Ты не знаешь, как у нас обстоит дело с авторскими правами на эту тему?
Отношение к авторитетам самого Пелевина ближе к тому же дзэн-буддизму, в котором непочтительное обращение с изображением или именем Будды только подчеркивает верность его учения.
Когда мы расставались, Пелевин напомнил, что интервью он мне не давал.
— Но, — спросил я, — могу ли я записать что-нибудь из того, что ты мне говорил?
— Можешь даже то, что не говорил, — махнул рукой Пелевин, — только не разжигай национальную рознь и не оскорбляй религиозных конфессий.